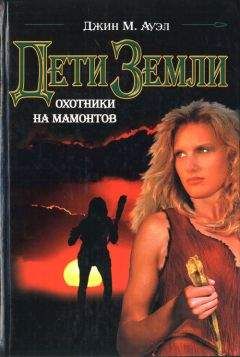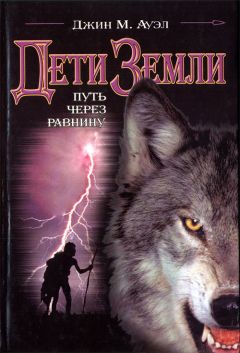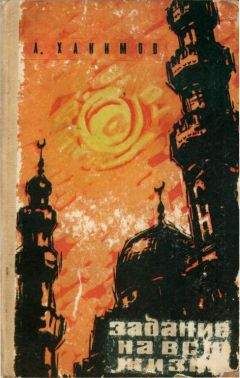Мурена - Гоби Валентина
Доктор не говорит ей и о дальнейшем, о том, как он работал с правой рукой, полностью усыпанной черными пятнами и скомканной наплывами плазмы; ему пришлось прорезать скальпелем мышечные ложи, сделать глубокие прорезы от плеча до запястья, чтобы спасти руку.
— Но я был вынужден ее ампутировать.
Женщина вжимается в спинку стула.
— Левую. Ничего не поделаешь. Нужно было сохранить ему жизнь. Пока что наблюдаем за состоянием правой руки. Он правша?
Женщина едва заметно кивает. Доктор снова ежится от своей бестактности: левша, правша — какая теперь разница?
— И теперь мы следим за состоянием ожогов на груди, под коленом и на спине.
Ошеломленная услышанным, женщина прикрывает глаза:
— Боже мой!
Она произносит по-английски: «Джизус!»
— Простите? — не понимает ее доктор.
До нее начинает доходить смысл сказанных слов, и ее одолевает череда мучительных образов. Женщина спрашивает:
— Он будет жить?
«Это невозможно», — думает доктор, но произносит:
— Не знаю.
У пострадавшего моча черного цвета, и это дурной знак.
— Меня беспокоят его почки, — как бы между прочим говорит он. — Кроме того, у вашего сына слабый иммунитет, понимаете? Состояние очень нестабильное.
Инфекция может проникнуть через многочисленные повязки, мальчик весь утыкан зондами и трубками, и это тоже открывает дополнительные пути для вредоносных микробов.
Доктор снова переходит к успокоительному тону, чтобы хоть как-то ободрить сидящую напротив женщину. Он знает множество случаев невероятного спасения, ему рассказывали о них коллеги. Вот история канадской девочки Розанны Лафламм — такая героическая фамилия! — ей было три годика, и в сороковом году она попала под комбайн, когда собирала клубнику, ей отняли три конечности, но она выжила; а вот Жак Боже — он сражался в рядах Сопротивления, совсем юноша, восемнадцать лет, участвовал в операциях в Дамаске, обезвреживал ящик с боеприпасами, зажав его между ног, взорвалась граната-ловушка, оторвало обе руки и вышибло глаза — все равно выжил! А вот Андре Дюмен — у него оторвало обе ноги при катастрофе на аэродроме в Бурже, и он тоже выжил; один русский в Москве пролежал в снегу при минус тридцати, впал в кому, но остался жив после ампутации конечностей; или вон тот рыбак, который закинул свою леску на линию высоковольтной передачи, тридцать процентов ожогов, прямо как у Франсуа Сандра, и все одно выжил; а сколько осталось инвалидов после Первой мировой войны: отравленных газом, обожженных, потерявших массу крови и тем не менее выживших!
Однако доктор не спешит поведать эти истории, так как сомневается, что выжить при подобных травмах такая уж большая удача, уж здесь-то, в Арденнах, мы знаем, каково приходится иногда.
— И что теперь? — спрашивает женщина.
— Нужно ждать. Повреждены руки, почки, может потребоваться пересадка… Я понимаю, это тяжело.
— И сколько ждать?
— Не могу сказать. Несколько недель, а то и несколько месяцев.
Он не может сказать ей больше, чтобы не солгать, ничего не поделаешь. Женщина складывает руки, словно в молитве: Франсуа, он же совсем беззащитен, за ним надо смотреть днем и ночью, вы же можете его убить, просто недоглядев за ним, даже медики не могут гарантировать жизнь!
— То есть от вас ничего не зависит? И вы мне это говорите?
— Нет, тут дело не только во мне.
Она хочет видеть его немедленно, ее голенькое дитя, дрожащего щеночка, крошечку, малыша…
— Я хочу его увидеть!
— Сейчас это никак невозможно, мадам. Малейшая инфекция может его убить.
— Скажите, когда я могу прийти?
— Наберитесь терпения. Ему еще предстоит несколько операций.
Первые дни — самый тяжелый период. Доктор не произносит слово «тяжелый» — это слишком болезненно.
— Приходите завтра, послезавтра, тогда и поговорим. — Доктор пожимает ей руку: — Обещаю.
Во время беседы с врачом Жорж молчал, откинувшись на спинку стула. Ма хотела, чтобы он тоже присутствовал. Теперь он то же, что она. Они идут по коридорам, слышится звяканье металла, невнятный шум голосов; на улице туман подсвечен тусклым светом фонарей. Шагать надо осторожно, под ногами сплошной лед. Сегодня Ма останется ночевать у Жоржа, он отвезет ее к себе домой, где их ждут его жена и двухлетний ребенок, Ма будет спать в его комнате, ей специально постелют. Она звонит Роберу и пересказывает разговор с хирургом. На протяжении всего ее повествования Робер непрерывно повторяет: «Джейн, Джейн, дорогая моя», он пытается подобрать утешительные слова, он сжимает плечо Сильвии, и это увеличивает боль от рассказа жены, она заканчивает и, не выдержав, разражается рыданиями, отчего маленький сын Жоржа вскакивает и прячется в юбке своей матери.
Она беседует с Жоржем и Колетт, отвечает на их расспросы о семье, об ателье, о Сильвии, рассказывает, как все усердно трудятся. Она наблюдает за тем, как играет ребенок, избегая смотреть на Жоржа, двадцатидвухлетнего молодого мужчину с таким нормальным, неповрежденным телом. Ночь кажется бесконечной. Ма хотела бы понять: это чудо, о котором говорил ей врач, произошло ли оно уже, или в него нужно все еще верить, и неизвестно сколько. И если речь идет о Боге, она бы хотела поверить в него.
Ма ждет всю следующую неделю. Жорж принес ей несколько журналов и снова приступил к работе на своей лесопилке. К обеду он возвращается домой. Она сидит в гостиной, читает журналы, не понимая, что там написано, рассеянно рассматривает напольную плитку, дремлет, сжимает челюсти. Хирург говорит, что моча все еще черного цвета, правая рука поражена некрозом. Колетт зовет Ма с собой по магазинам, чтобы купить ей белье и ночную рубашку. Она бродит вокруг дома, разглядывает чистое небо, считает созвездия. Она приходит на лесопилку, где воздух насыщен желтой удушающей пылью. Она долго стоит, закрыв глаза, среди грохота машин.
На следующий день хирург принимает ее сразу, он кажется еще более смущенным, чем в первый день. Он говорит, что не может рисковать, что моча остается черной и от почечной недостаточности может наступить смерть.
Он осмотрел лишенную кожи руку, которую пришлось покрыть пропитанной плазмой тканью, белые пятна кровоизлияний от ожога; он сделал длинные вертикальные надрезы — Ма увидела бы что-то похожее на складки воздушного шара, puffed and slashed sleeves [5], похожие по форме, хоть и не по цвету, на синие с красным рукава платья Белоснежки. Но он не стал описывать ей все это, он просто сказал, что рука сделалась полностью черной. «Итак, рука или почки? — подумал он. — Рука или сердце?»
— Понимаете, его сердце все еще работает… Еще работает.
Доктор не стал говорить, что удивлен этим фактом. Просто если он будет действовать быстро, мальчик может выжить. Да, доктор сомневается, что то, что он хочет сделать, хорошо, но его сомнения никому не интересны. Рядом мать, которая хочет видеть сына живым. Его работа — оставить его в живых.
Доктор тихо произносит:
— Я собираюсь ампутировать ему правую руку.
Она слышит слова врача, понимает, но не может представить. Она прекрасно знает тело своего сына, она портниха, и в данном случае это больше чем мать. Она отлично знает его размеры — шеи, плеч, груди, талии, длину рукава, длину штанины, длину туловища; она старается представить его в примерочной кабинке… без рук. Как так — без рук? Докуда их хочет отрезать хирург? У нее темнеет в глазах: до локтя, выше?
— Обе руки?
— Да.
И ей сразу хочется пристукнуть этого человека. Она хлопает по столу ладонями:
— Вы не сделаете этого! Зачем же вторую руку?
Такое даже вообразить невозможно.
— Я вам сочувствую, мадам. Но иначе он умрет.
Она понимает врача, и на глаза наворачиваются слезы. Хирург подносит ей стакан воды. Она опрокидывает его себе на голову. Врач смотрит на эту красивую женщину с темными кругами под глазами, на то, как стекает вода по слипшимся на висках прядям. Она вытирает щеки тыльной стороной ладони, закидывает волосы назад, громко вздыхает: