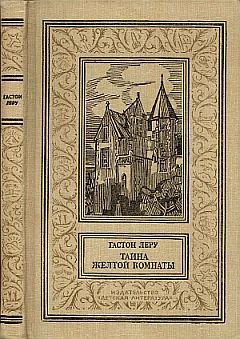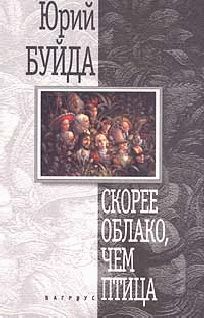Дар речи - Буйда Юрий Васильевич
Однажды его послали в дорогой магазин за какой-то надобностью. На стенах здесь висели контуры стоп знаменитых заказчиков – портреты их ног. Снимая мерку, мастер расспрашивал заказчика о жизни и детях, о болезнях ног и ушибах, подагре и мозолях, и иногда казалось, что мастер расспрашивает ноги, а не их хозяина. Затем босая ступня заказчика ставилась на лист белой бумаги, обводилась карандашом, и начиналось изготовление колодки: для англичан колодка важнее всего остального в обуви. Зауженные, слегка округлые носы, невысокие устойчивые каблуки, красиво отстроченные союзки, задники и берцы…
Здесь он и увидел эти ботинки, служившие образцом. Ему позволили взять их в руки – и он почувствовал их. Ощутил тепло, этот запах… Это были настоящие английские ботинки с верхом из оленьей кожи немецкой выделки и прокладкой из козьей кожи выделки французской, изготовленные из восьми кусков, с каблуком из двух десятков деталей и с полумиллиметровым стежком шва.
Всех его денег едва ли хватило бы на один каблук, но хозяин был не только богатым человеком и хорошим мастером – он верил в то, что и бедные души бессмертны и могут спастись. Он подарил эту пару молодому подмастерью. Ботинки уложили в кожаную коробку с клапаном и перевязали бечевкой.
Предок Шкуратова вернулся домой, в провинцию, и показал жене эти ботинки. Жена хотя и ждала подарка, но не обиделась и даже заплакала: ничего красивее, надежнее, солиднее она еще в своей жизни не видала, даже в церкви.
Родственники и соседи несколько дней приходили в гости с одной целью – посмотреть на ботинки. Это превратилось в ритуал: заводили самовар, выставляли на стол какое-нибудь угощение – ну, варенье домашнее или даже водочку. Развязывали бечевку, открывали коробку, снимали мягкую оберточную бумагу и брали в руки ботинки. Передавали из рук в руки. По-разному смотрели – кто с восхищением, кто с завистью, а кто-то вдруг вставал и уходил, не сказав ни слова, и, может быть, долго потом не мог уснуть в одиночестве, куря папиросы и тупо следя за бестолковой и безобразной ночной бабочкой, бившейся в ламповое стекло…
Разумеется, хозяин примерял ботинки и даже делал шаг-другой или даже другой-третий – надо же было показать, как они сидят на ноге, что такое нога в таких ботинках… Но потом он заворачивал ботинки в бумажку, прятал в коробку, и разговор заходил о чем-нибудь другом, хотя в комнате еще долго витал запах здоровой зрелой кожи, настоящей жизни, чего-то такого доброго, хорошего, может, даже праздничного… У нас таких не сделают, говорил кто-нибудь. Ему возражали. Люди, наверное, спорили, но вскоре уставали, и спор сам собой угасал. Слова – словами, а вот она – вещь в коробке.
Хозяин так никогда и не надел эти ботинки. Ну, чтобы выйти куда-нибудь, хотя бы, например, в церковь. Носил свои сапоги или там штиблеты – а ботинки хранил для какого-то особенного случая. Какого – Бог весть. Так случай и не вышел, а перед смертью человек этот запретил его хоронить в этих ботинках и завещал их сыну.
Сын выучился на медные гроши, стал мелким чиновником, и вот однажды в голову ему взбрело: а почему бы вдруг да и не явиться в канцелярию – в этих башмаках? Надел – пришлись впору. Повертелся перед зеркалом – чудо чудное. Подумал о невесте, о том, как она будет одета в церкви на венчании и как всё будет потом, когда жизнь войдет в обычную колею. Подумал о столоначальнике, у которого – он ведь знал – никогда таких ботинок не было, и вот он, юный чиновник, выучившийся на медные деньги, вдруг заявится на службу в таких башмаках… Спрятал ботинки в коробку, выпил рюмку смородинной и завалился спать.
Чиновники, военные, инженеры – они сносили сотни пар неудобной обуви, чтобы никогда не надевать эти ботинки. Они готовы были терпеть любые неудобства – мозоли, искривление пальцев, усталость в ногах, всё терпели, точно зная, что вон там, в шкафчике, в кожаной пахучей коробке, существует спасение ото всех этих мелких несчастий, а может быть, и не только от мелких, то есть не только спасение от мозолей, но и вовсе – счастье, смысл жизни, решительность, порыв, революция, способность изменить жизнь и зажить иначе, какой-нибудь другой, настоящей жизнью… Ботинки! Это была мечта. Это был некий рай – стоило решиться и руку протянуть, – но в том-то, наверное, и русское счастье, чтобы отказать себе в нем и руку не протягивать.
Папа Шкура был хорошим рассказчиком: умел держать паузы, в нужных местах играть интонацией, в патетических местах – говорить небрежно, чуть ли не зевая, чтобы снизить пафос истории.
– А потом? – спросил я. – Или эта история – без нравоучительного финала?
Мне было тогда семнадцать, и я был немножко ёрой и нигилистом, чувствуя себя слегка Шкуратовым.
– Финал есть, – сказал Папа Шкура, – но этот финал – скорее вопрос, чем ответ. Один из хозяев вдруг взял да отдал эти ботинки сумасшедшему соседу, который голышом бегал наперегонки с собаками и ел дождевых червей. Может, его тяготил сам факт владения сокровищем, которым никто не пользуется, может, размер не подошел, может, как говорится, хотел раз и навсегда закрыть тему, – кто знает… – Он широко улыбнулся. – Понятно, что через неделю ботинки было не узнать – сумасшедший разбил их в прах, в лохмотья, вдрызг, вдрабадан, уничтожил вещь, которую и оценить-то не мог…
– А вопрос в чем?
– Может, не стоило их отдавать сумасшедшему? Может, надо было самому их – в клочья?
– Если размер не подошел, может, взять да продать?
– Может. А может, и нет. В общем, Политбюро ЦК КПСС до сих пор не может ответить ни на один из этих вопросов, и это, мой дорогой, плохо… Кстати, знаешь ли ты, что если вожак птичьей стаи выбирает неправильное направление полета, стая перестает его слушаться?
Я фыркнул.
– Елизавета Андреевна сказала мне, что ты собрался в армию…
– Если призовут, пойду.
– И не жалко двух лет жизни? Ты хорошо учишься, неплохо владеешь английским и бодро осваиваешь французский, – так, может, лучше в университет?
– Не знаю. Посмотрим.
Он вздохнул, но продолжать разговор не стал.
Наверху что-то зашумело.
Похоже, Шаша проснулась и принимала душ.
Я включил ноутбук, с которым в последние годы не расставался.
Пробежав глазами полтора десятка деловых писем, среди них я увидел неожиданное – от Арсена Жуковского.
Вот уж кто ни минуты не колебался бы, надевать те самые ботинки или нет, так это Жуковский. В конце девяностых этот парень из глухой костромской деревни, окончивший провинциальный пединститут, приехал в Москву за деньгами и славой – и быстро стал звездой скандальной журналистики. В последние годы он взялся за биографии «героев ельцинской эпохи» – три его книги разошлись огромным тиражом, чему способствовали и судебные иски героев к автору. На него дважды покушались, и из этого он тоже извлек немалую выгоду. Работал Арсен обстоятельно, тщательно проверял факты и неплохо писал. Ему было плевать на любые убеждения – его целью был хайп, приносивший деньги, деньги и снова деньги. Недоброжелатели говорили, что Арсен – типично русское явление в его стремлении не возвысить низших, а унизить высших. Друзья же называли его «гонфалоньером свободы слова».
Особенность его метода заключалась в том, что сбор материала для новой книги он начинал с объявления охоты – публиковал в сети призыв «ко всем неравнодушным людям» поделиться информацией о герое будущей книги, его семье и друзьях. Поскольку речь шла об известных фигурах, Арсен получал тысячи писем, которые сортировались его помощниками. Самую интересную информацию те же помощники тщательно проверяли. Бо́льшая часть присланного сводилась к пересказу анекдотов, слухов и сплетен, но иногда откликались и люди, располагавшие ценными сведениями.
В позапрошлом году, когда мы с Шашей вернулись из Будапешта, Жуковский объявил охоту на Дидима, но книга пока не появилась.
Уважаемый Илья Борисович, как вы знаете, два года назад мы объявили о начале работы над книгой о семье Шкуратовых, точнее, об отце и сыне Шкуратовых. Борис Виссарионович был звездой перестройки, Виссарион Борисович – звездой ельцинской эпохи. Нам удалось собрать довольно богатый материал об отце и сыне, а также об их окружении – ближнем и дальнем. Но при этом возникло множество белых пятен, лакун, которые мы пока не в силах заполнить.