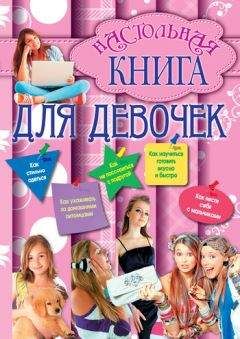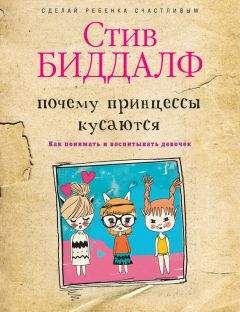Сомали Мам - Шепот ужаса
Вряд ли я одна пребывала в неведении. Однажды во время школьных занятий по военной подготовке один мальчик перешагнул через лежавшую на земле девочку, и та заплакала — она решила, что теперь забеременеет. Все мы были такие. Родители внушали дочерям: прикоснешься к мальчику — забеременеешь.
В первую же ночь муж изнасиловал меня на бамбуковой подстилке; он сделал это несколько раз, а когда я стала сопротивляться, ударил. Схватил за волосы и шмякнул о стену, а потом залепил пощечину, да такую, что я не устояла на ногах.
Когда наступило утро, мне пришлось встать и приготовить завтрак. Муж даже не извинился, ему не было стыдно. И вообще мы почти не разговаривали друг с другом.
Людей я видела только тогда, когда ходила в деревню за продуктами. Я жарила кузнечиков, готовила овощи, вялила рыбу — муж ел то, что я подавала. Если ему не нравилось, он меня бил.
Бил часто. Иногда прикладом ружья, которое он держал обеими руками и обрушивал на мою спину со всей силы. Иногда руками. Муж отращивал длинные, заостренные ногти, и у меня часто оставались глубокие шрамы на щеках. Делал он это потому, что я не улыбалась, не была с ним приветлива, не отличалась красотой, а лицо так и вовсе напоминало череп, обтянутый кожей; черепом он меня и называл.
Муж был очень вспыльчив. Многие военные таковы. Когда он сердился, я ходила тихо-тихо, едва дыша, стараясь быть незаметной — любой пустяк мог разъярить его. Иногда он стрелял в мою сторону, чтобы напугать. Поначалу это у него выходило — я очень боялась. Но потом привыкла. Внутри я как будто умерла. Когда муж насиловал меня, я представляла, что вообще не существую.
Так я жила — в том же домашнем рабстве, только иного вида. Я ни с кем об этом не говорила. Вокруг стояли другие дома, в них жили солдаты, у которых были жены, но все равно о подобном не принято было говорить. У камбоджийцев есть поговорка: «Не позволяй огню с улицы попасть в свой дом, а огонь домашнего очага не выпускай наружу». Не принято говорить о том, что происходит дома. Может, другие солдаты тоже били своих жен, пусть и не так часто, но били. В моей стране побои в порядке вещей.
* * *
Мужа часто не бывало дома, он воевал с «красными кхмерами». Шла борьба за плантации каучуковых деревьев, так что наш район буквально кишел солдатами правительственных войск. Когда муж уезжал, у меня быстро кончались деньги и еда, но я даже не знала, когда он приедет. Нечего было и думать о том, чтобы вернуться обратно в Тхлок Чхрой: дедушка побил бы меня, да и муж по возвращении тоже.
Тюп делился на две части. В одной находилась сама деревня, в другой, рядом с плантациями и нашим домом, стоял госпиталь и казармы гарнизона. В госпитале всегда было полно раненых: иногда приносили деревенских без рук, без ног — работая в полях, те подрывались на фугасах. Наткнуться на фугасы можно было повсюду. Закладывали их и «красные кхмеры», и правительственные войска, пытавшиеся остановить противника, не дать ему обойти плантации с тыла. Может, встречались даже неразорвавшиеся снаряды еще с тех времен, когда американцы бомбили Камбоджу.
Никто не хотел работать в госпитале, особенно в ночные дежурства, хотя за работу каждый месяц полагалось по тринадцать килограмм риса. Никто не хотел возиться с покойниками и ампутированными руками-ногами. Но мне работа нужна была позарез, а мертвых я не боялась. Мертвое тело все равно что мое тело — разницы никакой. Раз-другой я, правда, наступала в темноте на отрезанную руку или ногу, и, признаюсь, меня охватывал ужас.
Порой, когда прибывали подорвавшиеся на фугасах, нам не оставалось ничего иного, кроме как ампутировать. Часто никакой анестезии не было, и мы попросту привязывали человека. В госпитале были врачи. но назвать их квалифицированными язык не поворачивался — просто фельдшеры, которые научились кое-чему при режиме «красных кхмеров». Если никого из врачей поблизости не было, нам, медсестрам, приходилось делать операции самим. Только одна из нас получила медицинское образование — главная медсестра несколько месяцев ходила на курсы в Пномпене.
Мы учились методом проб и ошибок — в основном ошибок. Когда медикаменты подходили к концу, мы разбавляли их. Больные умирали от гангрены, малярии или потери крови. Хуже всего было, когда умирали роженицы. Вот их мне по-настоящему было жаль. Одна женщина, ожидавшая двойню, страдала в течение нескольких часов. Делать кесарево сечение мы не умели. Я до того вымоталась, что когда женщина умерла, заснула тут же. на полу, рядом с ее телом.
Когда у молодых матерей открывалось внутреннее кровотечение, им становилось плохо, у них начинался жар. На Западе такое называется послеродовым сепсисом. Мы же судили иначе. Нам казалось, что во время родов дух умершего проникал в тело женщины и устраивал там пляски. Многие после родов умирали от сепсиса. Те же, кто выживал, возвращались домой и выпивали стакан мочи мальчика — таков был обычай. Под их кроватями клали уголь и разводили костер. Роженицы должны были есть много перца, чтобы восстановиться, а также отбелить кожу. Их кормили сильно перченой свининой в густом соусе и давали несколько стаканов спиртного. Мы прибегали к традиционным рецептам, но рядом не было никого, кто действительно разбирался бы в традиционных методах лечения, так что приходилось действовать на свой страх и риск.
Привычки мыть руки с мылом не существовало, потому что его просто-напросто не было. Из-за этого любая инфекция становилась практически смертельной. Теперь, по прошествии стольких лет, я понимаю — то, что мы делали с больными, было просто ужасно. Но повсюду царили бедность и невежество. И ужасными были не мы сами, а то положение, в котором мы оказались.
* * *
Через полгода замужества у меня случились первые месячные. Мне исполнилось пятнадцать. Тогда я подумала, что во время купания в озере меня укусила пиявка. Я даже не догадывалась, отчего у меня кровь. Весь день я просидела дома; мужа не было, он воевал. Придя в госпиталь на дежурство, я решила расспросить Пэу, другую медсестру. Появилась главная медсестра, сердитая на меня. Она спросила, почему я опоздала; когда я рассказала ей, что в «тайном месте у меня течет кровь» — так мы говорили, — сердиться она не перестала, но все же объяснила, что к чему: мол, так бывает у всех женщин.
Потом подвела меня к шкафу, где хранила чистую марлю для перевязок. У Пэу еще не начались месячные. Эту темнокожую, некрасивую на лицо девушку никто из медсестер не любил, но мне она нравилась. Пэу было пятнадцать, как и мне. И, как и я, она была сиротой, жила с дядей, который бил ее. Пэу рассказала мне, что однажды он ее изнасиловал. Я ничего не говорила Пэу про мужа, но поняла тогда, что не одинока. Мой муж делал мне больно между ног — то же самое происходило и с другими женщинами.