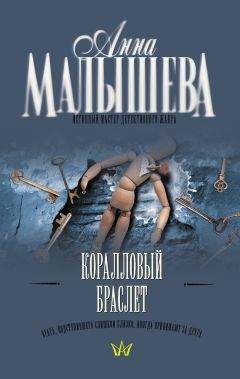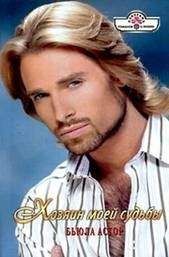Юрий Красавин - Привет, старик!
Она посмотрела в окно, потом попросила:
— Ну, тогда почитай мне свои стихи.
Он прочел ей: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны». Она слушала с прекрасным выражением на лице.
Россия! Как грустно!
Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.
Не думаю, что ему было поставлено в зачетку «отлично», наверно — «удовлетворительно». Он не мог постигнуть хитроумную науку языкознания, но владел волшебством слова. Этот дар был определен ему игрою человеческих судеб, прихотью природы или божественным соизволением. Эта загадка — почему он, а не кто-то другой? — интересовала меня всегда. За что именно ему или Есенину, Бунину, Пушкину, за какие заслуги этот дар? Я не находил ответа.
Помню Колю в потрепанном демисезонном пальтеце с поднятым воротником; в распахнутых полах — концы старенького шарфика, обмотанного вокруг шеи, в глазах вселенская печаль. Он неизменно грустен был и печален, понур и как бы в чем-то перед кем-то виноват.
Я всегда отмечал его глазами в толпе — у института ли, возле общежития ли: вот тот низенький, плохо выбритый, с жидкими волосами, зачесанными на лысину, — это Коля Рубцов, написавший «Звезда полей во мгле заледенелой. / Остановившись, смотрит в полынью», и «Взбегу на холм и упаду в траву. / И древностью повеет вдруг из дола», и «В этой деревне огни не погашены, / Ты мне тоску не пророчь», и «Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи», и «Там в избе деревянной, / Без претензий и льгот, / Так, без газа и ванной / Добрый Филя живёт».
На групповой фотографии весной 1969 года Коля Рубцов трезв, улыбается, на нём пиджачок с отвисшими карманами, штаны на коленях пузырятся, ботинки не чищены, стоптаны.
Наверно, в тот день я видел его в последний раз.
— А почему мы с тобой часто ссорились, старик? — спросил меня Комраков. — Однажды до того, что не виделись пять лет.
— Я слишком многое тебе прощал. Ты иногда распоясывался. Однажды приступал ко мне с ножом.
— Это я хотел обрезать твой галстук. Он мне очень не нравился.
— Нет, ты хотел нанести мне смертельное оскорбление. Ведь поглумиться хотел!
— Пьяный был, — покаянно сказал Комраков. — Прости, старик. Не вели казнить.
— И на письма мои отвечал редко: я тебе три-четыре, а ты мне одно. Это не по-товарищески.
— А не люблю я эпистолярного жанра!
— Тогда какого черта ты полез в литературу! Занимался бы разведением кроликов. Так нет, вишь, в писатели, а взялся за дело, так делай! Сам процесс писания должен вызывать у тебя приятное ощущение, сравнимое с тем, что испытываешь, обнимая любимую женщину.
— Вот-вот. Ту все время меня укорял: мол, слишком я приземлён, привержен к материальному в ущерб духовному — это и раздражало. Ни с Олегом Пушкиным, ни с Генкой Васильевым у меня никаких размолвок не было, а с тобой.
— Так они же ребятки ужасно положительные! А я, увы, с некоторыми недостатками. Но имей в виду: никто тебя не любил так беззаветно, как я. Моя любовь к тебе — это вот то, что имел в виду Тарас Бульба: для меня нет уз святее товарищества.
— Ты слишком обидчив, старик: самолюбив, капризен, изнежен. Тебе трудно жить на свете. У тебя комплекс невостребованности, понимаешь?
— Да сам ты гусь лапчатый! На том и остановимся.
— Нет, надо договорить, раз уж начали. Ты ведь Колю Рубцова не зря нынче вспомнил. Признайся, не зря ты мне его в укор ставишь. Разве не так?
Он говорил неторопливо, изредка взглядывал на меня.
— Мол, после Рубцова остались стихи, его песни вся Россия поет, и памятник ему уже соорудили где-то на Вологодчине. А, дескать, после тебя, Комраков, почти ничего. Это ход твоих мыслей, старик, я вижу тебя насквозь.
Я молчал.
— После тебя, мол, Комраков, вехами твоей судьбы — квартира на Селезневке, дача в Красной Пахре, гарнитур мебельный да шмотки кожаные, тогда как должны были остаться шесть повестей, ишь, вспомнил!
«Давай-давай, — подумал я, — Выговаривайся».
А вслух сказал:
— Заметь: все это ты говоришь, а не я.
— Дипломат. Да, не написал я еще три повести, так что из того? Мало ли их пишут!
Тут он замолчал. Белка поцокала над нами, устроила небольшой снежный обвал. Нам было не до нее. Мы молчали довольно долго.
— Ты и вправду считаешь, что я ошибся? — тихо спросил Комраков. — Что не то делал и не так? Ведь ты именно так считаешь!
— Я не сужу тебя, Гена, — сказал я виновато. — Но мне, признаюсь, досадно: ты мог бы сделать больше и не сделал. Ты мог бы написать то, чего другие не знают и не смогут. А теперь что же, игра сыграна, свечи потушены.
— Ладно. Ты и раньше нажимал на меня: мол, я отступил от святого дела, предал женщину по имени Литература.
Мне не хотелось оправдываться, отрицать. Если он это помнит, значит, я говорил.
Костер у нас совсем потух. Собачка пропала куда-то. И разговор уже еле теплился.
— Ну, что ж, — сказал Комраков, вставая. — Чего теперь уж. Ты прав: что было, то было, а чего не было, тому не бывать.
Он надел кепку и повернулся уходить.
— Погоди, — сказал я. — Посиди еще.
Мне хотелось что-то сказать ему, но слов я не находил.
Он уже удалялся между заснеженными елочками. Я окликнул:
— Комраков!
Он лишь чуть-чуть развернулся корпусом, но не остановился.
— Мы еще увидимся, Комраков?
Он не ответил. Снег мягко похрупывал у него под ногами, и скоро все стихло.
В третий раз он пришел ко мне во сне. Пришел, сел возле моего дивана, на котором я сплю:
— Привет, старик!
Буднично так сказал, спокойно. И сразу же тоном упрека:
— Ты почему мне не пишешь?
Опять, словно я обещал, но не исполнил обещанного.
— Куда писать, Гена! Я не знаю твоего нынешнего адреса!
Я во сне понимал, что он умер, и в то же время сознавал, что его появление у меня естественно и правомерно.
— Как это не знаешь! — ворчливо произнес он. — Раз писатель, значит, должен быть осведомлен о всех тайнах бытия, тут и там. В этом суть и смысл твоей профессии, старик.
Я ничего не мог возразить ему. Действительно, должен быть осведомлен, но… не сподобился. Я чувствовал себя виноватым.
— Ты двигай мозгами, старик, двигай. Если не ты, то кто?
А я не мог понять, чего он хочет от меня: каких писем? И куда? И о чём?
— Ты должен написать, старик, — убеждающе говорил он.
— Не мучай меня, Комраков! — попросил я. — Не требуй того, что выше моих сил. Я делаю, что умею, и не более того.
Он разочарованно покачал головой и встал, и отдалился от меня, отстранился.
— Ты ещё придёшь, Комраков? — спросил я его, привстав на постели.
— Нет, — сказал он уже через пространство.
И повторил обречённо:
— Нет.
Я горестно осознал, что больше не услышу от него «Привет, старик!» — это переживание от утраты было так сильно, что я проснулся с ощущением глубокой вины своей… перед ним? или перед кем?