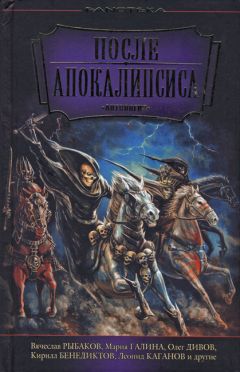Георгий Лапушкин - Анна Монсъ (рассказы)
Доделав игрушку, Николай вдруг повеселел, и, словно что-то его толкнуло, зашел на кухню, поцеловал жену в щеку — и извинился за грубость. Она не сердилась.
Весна
«А не будет ли хамством, если я ее поцелую?» — подумал Матроскин, и подошел чуть ближе. — «Да нет, пожалуй, обидится.» Он стоял почти вплотную, так, что она чувствовала тепло его тела; он приближался, когда она наклонялась над этюдником — и отодвигался, если она чуть отшагивала назад. Они не сказали еще и двух слов — но скоро он заметил, что краски на палитре все перемешались и растеклись причудливой лужицей, а шейка ее чуть порозовела.
К слову сказать, в ее этюднике краски лежали россыпью, кисти из-под масла шли, видимо, и для акварели — короче, полный бардак — как не преминул отметить Матроскин.
На деревьях вокруг были развешаны желтые листья с отливом в багряное и золотое, солнце проглядывало сквозь узорные кроны — пейзаж осеннего этюда.
Поняв вдруг, что ее смущение сейчас перейдет в свою противоположность, не успев даже осознать, что он делает, Матроскин быстро наклонился, схватил зубами мочку ее уха, несильно, но сладострастно помял, провел по ней языком — невольный взгляд в вырез платья — и быстро отпустил, пока она не успела опомниться; тут же прошел чуть вперед, ближе к этюднику и успел поймать ее взгляд — то ли смущенный, то ли возмущенный — он потерялся в этих глазах.
— Мне чертовски понравился твой этюд! — сказал он напористо и решительно — а она отметила нотки испуганного мальчишки в его голосе, и фраза эта почему-то помнилась ей потом всю жизнь — а он что-то говорил и говорил, торопился, пока она еще не решила, рассердиться ей или улыбнуться.
— Кстати, меня зовут Матроскин, — закончил он фейерверк слов и небрежно — как думалось ему — и бравируя — как показалось ей — достал пачку сигарет, оперся рукой о этюдник — ты мне его подаришь?
— Это же мой зачетный, — как со стороны слышала она свой оправдывающийся голос.
Этюдник так и остался в густой порыжевшей траве, трехногий, обиженно — покинутый; на листе бумаги, приколотом канцелярскими кнопками, расплывалось что-то багряное.
Нателла и Матроскин спустились вниз к реке, бродили вдоль берега не замечая ни темной, как мокрый асфальт, воды, усеянной палой листвой, ни отражавшихся в ней кустов и черных сосен. Потом курили молча, медленно, не глядя друг на друга одну и ту же сигарету по-очереди. Прежде чем поцеловаться, долго, как актеры в плохом фильме, смотрели друг другу в глаза — оба сознательно оттягивали этот момент, чтобы подольше помучить друг друга.
Высотные здания смотрели на них издалека, строго, как идолы с острова Пасхи.
Об этюднике вспомнили только на выходе из парка, оба одновременно, словно проснувшись — и долго хохотали, на зависть прохожим; возвращались еще дольше, чем шли к выходу.
— А зачем ты берешь с собой листья?
— Надо же мне как-то отчитаться, буду дома писать…
— А ты поставь перед собой зеркало — и пиши свои волосы, они у тебя такие же золотистые!
Пока она собирала свой ящик, Матроскин пустился на комплименты. К сожалению, часть из них, и немалую, ему случалось говорить раньше; почувствовав это, она рукой зажала ему рот.
Скоро этюдник был собран, однако Матроскин умудрился оторвать от него ремешок — и нес этюдник в объятиях так же умело, как счастливый отец несет новорожденного.
Наверное, бесполезно было бы ему сейчас внушать, что эта встреча — говоря языком газет — начало тяжелейшего периода в его биографии, что чуть позже все вокруг вдруг обернется сплошным плотным кошмаром…
Кажется, это состояние называют любовью.
Хотя если немного задуматься, станет ясно, что никакой любви, по-правде говоря, на свете и не существует. Просто в юном возрасте (лет в шестнадцать, скажем) в крови происходит какое-то брожение — при этом люди влюбляются в кого ни попадя. А в двадцать лет уже начинаешь понимать — какая это все глупость. Начинаешь понимать что все это уже было с кем-то, и прошло, и забылось и будет с кем-то еще — но все это суета; суета сует. Но даже когда становишься выше и старше всего этого, все же невольно чего-то жаль — как будто что-то потерял. «Шепот, легкое дыханье…» — это уже не повторится. И никогда не будет больше бунинских темных аллей — наш мир уже все это перерос, мы стали выше этого! Но тут уж ничего не поделаешь — ведь все знают, что весна бывает только один раз…
Нателла и Матроскин шли по дорожке, усаженной липами, под ногами шуршали щедро набросанные листья — словно ворохи перфолент. Потом была большая площадь, по которой сновали вперемежку машины и пешеходы, носились дети — эта картина напоминала демонстрацию Броуновского движения в школьном курсе физики. Они пересекли эту площадь по какой-то сложной траектории, прошли мимо магазина с сердитой очередью в внутри, мимо ободранной будки с одиноко живущим внутри телефоном — и затерялись в переулках. Матроскин запомнил только, что в какой-то момент они вдруг оказались посередине дороги и так и шли некоторое время вдоль неё. Вслед за ними медленно катился автобус. Наверное, водителю было интересно, когда же они, наконец, опомнятся и дадут ему проехать. Но скоро ему эта забава надоела, и он нажал на клаксон…
Расставались они в двенадцатом часу, на пороге ее квартиры. Вот-вот должны были нагрянуть родители. Оба были сонные и одуревшие, минут двадцать целовались — на прощанье.
А потом за ней закрылась дверь, и остались — мрак, холод и одиночество. В этой теплой компании Матроскин прошлепал по каменным ступеням подъезда, и погрузился в ночь — как падают в воду; прохладный ночной воздух, листья под ногами, неестественно-резкий, но такой привычный свет фонарей… Он брел, шурша листвой, вдоль аллеи, остановился в конце ее, словно напуганный темными, нависшими контурами зданий. Ветер хлопнул дверью подъезда, подхватил листья с земли — потом запутался в деревьях, пропал.
Он прошел чуть дальше — и медленно оглянулся в тишине. Город многие невольно отождествляют с живым существом. Город спал. Проехал, мигнув красными огоньками, автомобиль, визгнули шины на повороте — и снова тишина.
В его душе причудливо смешались Весна и Осень, он стоял и смотрел — как будто впервые все видел. Над головой, на черном ночном небе — ни единой звезды. Почти скрытая темными ночными громадами, светилась луна — как одинокое окно, за которым не шевельнется ни одна тень…
Анна Монсъ
Люди часто хотят заглянуть в прошлое… Зачем?.. Несправедливость, которую мы видим каждый день, горе, ложь.. — неужели раньше всего этого было меньше? Конечно, нет.
Я думал об этом, гуляя в Лефортово. Ну где оно, это прошлое? Дома? Да, старинные. Большая часть, наверное, построена при Сталине — и мало что при царе. Рельсы, трамваи — тоже нечасто все это увидишь, тоже старина. Но ведь при Петре, к примеру, почти ничего из этого не было. Все поменялось с тех пор, может быть не осталось и камня на камне. Но ведь что-то же все-таки сохранилось?
Все встречные дома, все деревья я внимательно изучил — на предмет их древности; иногда мне казалось, что прошлое прячется за спиной — надо только подкараулить его и неожиданно обернуться: там будут причудливые коляски, дамы в шляпках и с зонтиками… Лефортово…
И все-таки, как это понять, ведь если не осталось ничего… Почему тогда мимо этих мест нельзя пройти просто так — невольно ощущаешь чье-то незримое присутствие? Я долго думал над этим. Обладая аналитическим складом ума, я сделал единственный возможный вывод: существует дух, т.е. субстанция нематериальная, неподверженная законам нашей физики. Или, скажем так, существует нечто.
Эту штуку я назвал для себя душой. А что? Почему-то все считают, что душа у нас одна — да ничего подобного. Душа — явление коллективное, она принадлежит не одному человеку, а ему и всем его друзьям вместе взятым. Но всегда бывает так, что человек состоит в нескольких компаниях, друг с другом не совместимых. Приходится признать, что один человек может иметь сразу несколько душ. В самом деле, как часто мы имеем близких друзей, которые друг друга знать не желают! Приходится разрываться между ними — и для кого-то это может быть даже трагедией. А просто дело все в том, что приходится разрываться между половинками, четвертинками и проч. своей души.
Но продолжим. Тело, душа… А что же такое тогда человек? Или, скажем для определенности, личность? И вот такая получается картина мира: существует трехмерный физический мир, по которому бродят тела; существует идеальный мир (тоже как минимум трехмерный, это несложно доказать математически), по которому бродят души, которые тоже сами по себе; а вот то, что их связывает, эти два мира — и есть личность! То-есть личность ставит в соответствие тело — душе, или наоборот, а чаще всего нескольким телам — одну душу, одному телу — несколько душ. Получается так, что личность — это функция, ставящая в соответствие миру тел — мир душ!