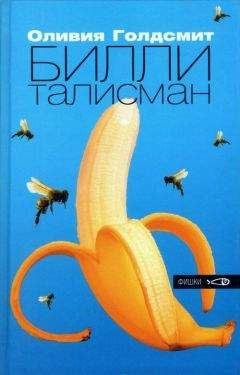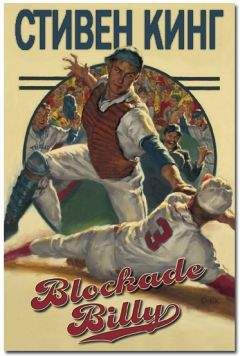Джала Джада - Сократ и афиняне
Сначала Сократ походил по театрону, то есть по зрительским рядам, которые ступенями поднимались вверх. Присел в первом ряду, где сиденья имели высокие спинки — здесь во время представлений обычно располагались магистраты и почетные гости: архонт-эпоним, стратеги, другие государственные мужи и иностранные посланцы. Театрон делился широкими проходами на три яруса, а лучеобразно расходящимися лестницами — на сектора. У него была давняя привычка, приходя в театр Диониса, считать сектора. Сократ привычно сосчитал лучи, их получилось четырнадцать. Улыбнулся от мысли, как много остается в жизни непознанного вокруг и в себе. Ведь он, прожив жизнь и сотни раз побывав здесь, так и не узнал, почему лестниц, расходившихся лучами и деливших театрон на сектора, именно четырнадцать.
Сократ поднялся на второй ярус, где, как он считал, лучше всего сидеть на первых двух-трех рядах: видно и слышно хорошо, а вот как потеют, сопят и топают актеры — не заметно и не слышно. Поднявшись на третий ярус, посидел на галерке, где обычно собирался люд, который ходил в театр на деньги, выделяемые по решению Перикла государством.
— Боги дали блага жизни всем в одинаковой мере. Если невозможно, чтобы во всем было так, то нужно сделать доступными всем афинянам хотя бы праздники, — будто слышал Сократ голос Перикла на Пниксе.
Хотя народные собрания проходили каждые десять дней и стали особенно многолюдными, когда афинским гражданам — не только магистратам, но и просто собирающимся — начали за это еще и деньги платить, выступления Перикла были нечастыми. В те дни, когда он выступал, все об этом знали заранее и собирались не только со всего города, но и из окрестных деревень. То, что говорил Перикл, было важно и всегда вносило в жизнь государства и каждого афинянина что-то новое, значительное и лучшее.
Капля уже закончившегося дождя, где-то задержавшаяся, догоняла своих собратьев и запоздало шмякнулась на крышу скены — здания, которое заменяло декорации. Хотя расстояние было больше сорока рядов, Сократ ясно услышал, что упала только одна капля. Звук же от нее не просто добежал до самого последнего зрительского ряда, а еще долго блуждал по театрону, перескакивая с рядов для мальчиков в ряды для эфебов, потом — на ряды для метеков и для женщин, которые допускались только на трагедии. На память пришла жена Перикла — прекрасная Аспасия, дочь афинянина Аксиоха и мелитянки Сиры, которая, нарушая афинские обычаи, выходила к гостям мужа, вела с ними беседу, участвовала в спорах о политике, об искусстве, о хозяйстве, доказывая, что женщина может быть умнее многих мужчин.
Спустившись вниз, Сократ походил по орхестру (конистру), где на полукруглом открытом пространстве между театроном и скеной актерами разыгрывались смешные и трагические сцены. На орхестру хор выходил через два прохода (пароды) — справа и слева. Рядом были два параскения — помещения, где актеры хранили костюмы и переодевались. За скеной Сократ увидел следы запустения: там лежали обломки театральных машин — для воспроизведения грома с молнией, для появления богов с высоты и много для чего другого. Проросшая через обломки камней трава пожухла, приобретя коричневатый цвет, от чего казалось, что все здесь заржавело. Тоска и уныние царили в том месте, где раньше всегда были веселое оживление и радость. Сократу расхотелось идти в Одеон, построенный по распоряжению Перикла, который дополнил гимнасархии в дни праздников еще и соревнованиями музыкантов и певцов. В Одеоне ставились лишь музыкальные представления, поэтому для улучшения акустики здесь была возведена куполообразная крыша, но зато не было подвижных декораций.
«Нельзя предавать свою судьбу. А это произойдет, если откажешься от того, чем занимался всю жизнь», — думал Сократ. И на память пришла одна беседа с прекрасной Аспасией. Воспоминание было настолько ярким, что Сократ не только увидел эту удивительно красивую женщину перед глазами, но и услышал все оттенки ее голоса.
— А скажи, милейшая Аспасия, что такое предательство? И к чему нам стоит его относить: к добродетели или к пороку? — спросил Сократ, слегка склонив голову набок, как делал всегда, когда собирался всерьез поговорить с собеседником.
— Знаю, Сократ, что ты вопросы задаешь неспроста. Поэтому дай немного подумать, прежде чем ответить.
— Мудрость твоя, Аспасия, достойна твоей красоты. Если бы политики, стратеги и торговцы были такие же любители подумать, прежде чем что-то делать, государство бы благоденствовало, а люди были бы счастливы.
— Спасибо, Сократ. Я думаю, что предательство состоит в том, что люди нарушают данное слово верности и лишаются доверия честных людей. И нельзя предательство относить к добродетели.
— Прекрасно сказано, Аспасия. Лучше не смог бы сказать никто — ни один из мудрецов, ни прошлых, ни нынешних. Однако не могла бы ты быть настолько любезна — терпение твое к непонятливости других так же велико, как и красота и мудрость твоя, — ответить мне еще на один маленький вопрос? Меня смущает в твоем блестящем ответе следующее: а что это такое «слово верности», несоблюдение которого есть предательство?
— На это, Сократ, я могу ответить сразу. Слово верности — это обещание всегда выполнять то, что говоришь.
— Если ты, милая Аспасия, обещала прийти на пир и забыла, будет ли это предательством?
— Конечно, Сократ. Гости соберутся, а того, кого ждут, не будет. Конечно, это предательство.
— Если обещала простить и не смогла, будет ли предательством?
— По отношению к доброте, да.
— А если в сердцах, обидевшись, пригрозила побить кого-то, но потом простила, тогда будет ли это предательством по отношению к доброте?
— Нет, это будет уже предательством по отношению к несправедливости.
— Будет ли предательство несправедливости добродетелью?
Аспасия засмеялась и ответила:
— Я знала, Сократ, что ты меня наставишь на правильный путь понимания предательства, но почему-то пока мой деймонион молчит. И я не скрою, что ничего ответить тебе не могу. Получается, что предательство по отношению к несправедливости — это добродетель. Значит, не всякое предательство есть признак порочности.
— Милейшая Аспасия, не стоит наговаривать на своего гения, дитя богов всегда в нас, мы лишь можем его разбудить и дать возможность заговорить. Оно уже ведет тебя по верному пути. Осталось расстояние меньше, чем от Акрополя до Пирея.
При этих словах Сократа все засмеялись, ибо путь, указанный им, был не очень-то и близок — более пяти стадий.
Свет и предметы порождают тени. Светлая жизнь и добродетельные люди порождают черную тень зависти у ничтожных людей. Воспоминания об Аспасии напомнили и о гнусном сочинителе никчемных комедий Гермиппе, который обвинил гордую жену Перикла в безбожии, в нарушении законов благопристойности, будто она завлекала в свой дом свободнорожденных красивых афинянок для гнусного ремесла, будто с ее помощью жены в постели Перикла помогали своим мужьям стать государственными мужами. Сократ с улыбкой вспомнил, как однажды Фидий по большому секрету показал на фризе Итонских ворот место, где он изобразил Аспасию, увековечив ее прекрасный образ в камне. Боль сострадания к бедной Аспасии холодной волной обволокла сердце старого философа. Последние годы ее жизни были полны тяжелых испытаний. После подлых обвинений ушел из жизни Перикл, за ним погиб в Карии ее новый муж Лизикл, скототорговец, ставший не без ее помощи прекрасным оратором и неплохим полководцем. Ее любимый сын — один из стратегов-победителей при Аргинусских островах — был обвинен в неуважении к афинским традициям. И когда афиняне осудили его на смерть, старая Аспасия сошла с ума. Она бродила по Афинам, спрашивая встречных, не видели ли они Перикла. И было неясно, о котором из них она спрашивает. И одним богам известно, кого из них она в эти мгновения вспоминала. Последняя встреча с этой удивительнейшей женщиной, настолько же прекрасной, как и мудрой, причинила Сократу невыносимую боль. Незадолго до своей смерти она встретила Сократа у Акрополя и не узнала его. Попытки напомнить о себе вызывали лишь дикий хохот и истеричные ругательства. Обливаясь слезами, Сократ оставил ее в покое.
Жалкие враги Перикла, не смея нападать на него самого, клеветали на тех, кто его окружал и помогал осуществлять его грандиозные планы. Лучшим способом вывести человека из себя служили грязные слухи о его жене. Многие пострадали. Про жену Мениппа в Афинах распевали оскорбительные песенки. Пели и про птичий двор Пирилампа, якобы снабжавшего Перикла диковинными в Греции павлинами, которыми он будто бы одаривал своих куртизанок. А трудолюбивого Метиха обвиняли в жадности до должностей — за то, что он руководил многими делами государства. По Афинам гуляло такое стихотворение: