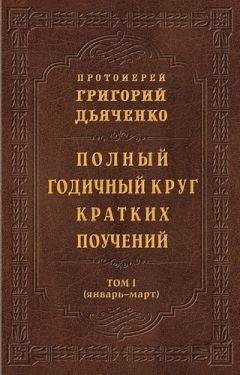Энтони Бёрджес - Враг под покрывалом
– Но я ведь не виноват, правда? Нельзя давать обещания, которых не можешь исполнить. Вдобавок этот самый Джаганатан не кажется слишком умным.
– Нет, но это значения не имеет. Он пятнадцать лет в колледже, у него много связей, хорошо ладит с местными колдунами. Слыхали про них?
– Немного. Хотите сказать, будто он собирается тыкать в мою фигурку булавками?
– Возможно. – Толбот с удовлетворением оглядел быстро очищенные тарелки, в конце концов нацелился на огромную красную глыбу свекловицы. И отправил всю в рот. Пока говорил, она пару секунд прыгала, словно второй язык. Миссис Толбот мрачно улыбалась Краббе, и Краббе стало ее слегка жалко. – Так или иначе, у него степени нет. Конечно, значения этому никто не придает. Все считают нашу кожу каким-то кусочком пергамента. Мы носим свою белизну, как диплом. Я бы сказал, неплохо. Надо это использовать.
– А дом? – поинтересовалась Фенелла.
– Дом хороший. Может быть, расположение странным покажется, он стоит как бы в центре кампонга. Но это из-за Фосса. Он все время зазывал малайцев к себе на веранду, рассказывал им истории про большой мир за морями. Фосс был чуточку тронутый. Холостяк, понимаете. Никогда не пил, в клуб не ходил. Воображал себя неким спасителем угнетенного коричневого человека. Раздавал деньги налево-направо, и вскоре местные малайцы начали перетаскивать свои дома и помойки к нему поближе, так что он попал в центр нового кампонга. Да вы сами наверняка видели что-то подобное, правда? Вся распроклятая деревушка тащит дома на собственных плечах с сумасшедшими воплями. Часто такое бывает. Переносные кампонги.
– Может, теперь, после нашего приезда, унесут их обратно, – предположил Краббе.
– Ну, старина, это уж ваше дело. Увидите, как они нынче вечером явятся послушать сказку на ночь. Я бы на вашем месте их выставил. Жутко обидчивые, и ходят с топорами.
– Слушайте, – сказала Фенелла, – когда следующий самолет обратно?
– Впрочем, старик Фосс не настолько обожал малайцев, чтобы не обзавестись одним из лучших в штате поваров-китайцев. Я там несколько раз великолепно обедал. Пробовал переманить, да он не пошел. Говорит, слишком стар, не станет обрубать концы, менять место. Стало быть, вам достанется вместе с домом.
– Вы хотите сказать, мы получим в придачу первоклассного повара? – уточнил Краббе.
– Вам повезло, старина. А-Винь – сокровище. Чуточку чокнутый, без конца до упаду хохочет, и немножко глухой, поэтому не стоит отдавать ему приказания. Пусть просто делает по-своему, будете весьма довольны.
– Так, – заключил Краббе, сонно откинувшись в кресле. – Не могу дождаться.
– Я домой еду, – объявила Фенелла. – Решительно еду домой. Как только ты это сможешь устроить.
– Не говорите так, – сказал Толбот, счастливый и сытый. – Вам тут понравится. Просто обождите, увидите.
– Обождите, увидите, – с какой-то язвительностью вставила миссис Толбот. – Тут просто рай для белой женщины.
– Ну а теперь извините меня, – извинился Толбот. – Надо ехать. Традиция, знаете. Все любят, когда к ним заскакиваешь в китайский Новый год, чего-нибудь съешь, выпьешь стаканчик виски. У меня несколько встреч назначено. Заходите к нам, когда устроитесь. Я должен вам еще свои стихи почитать, миссис Бишоп.
– Краббе, – поправила Фенелла.
– Простите? – Толбот несколько оскорбился.
– Вы не можете отвезти нас домой? – спросил Краббе. – Наша машина еще в пути. Кроме того, мы просто дороги не знаем. – И взглянул на миссис Толбот. – Я хочу сказать, в топографическом смысле.
– С удовольствием, – согласился Толбот. И пошел вперед с круглыми, как луна, ягодицами, туго обтянутыми очень короткими шортами. – Это ваш багаж?
– Большое спасибо, – во весь рот улыбаясь, сказал Краббе миссис Толбот, раскинувшейся в кресле, – за гостеприимство.
– Пожалуйста, – сказала она. – В любое время. Я люблю гостей принимать.
4
Чи Норма бинт Абдул Азиз руководила уборкой после приема гостей. Прием кончился рано: последние сентиментальные протесты вечной дружбы, банальное философствование, долгие визиты в джамбан на заднем дворе под упрекающий призыв муэдзина на ложной заре. Уборка была длительной и щепетильной: солнечный свет явил взору большой беспорядок. Абдул Кадыр старался, как всегда, расшевелить компанию. Вылил в кухонное ведерко почти все бутылки с пивом, кварту крепкого, фляжку бренди «Бихив», полбутылки «Винкарнис» и остатки виски. Приправил пенистую бурду красным перцем и предложил всем выпить. Это был его единственный вклад в угощенье гостей. Веселый, готовый к скандалу, вечно в рабочих шортах, со стриженной ежиком головой в форме пули, в ученых очках без оправы, он никогда не был платежеспособным. Регулярно извинялся за этот факт, являлся домой к друзьям, чтобы выразить сожаление по поводу невозможности отплатить гостеприимством, продолжал извиняться на поспешно предоставленном месте за обеденным столом, забывал об извинениях за последним стаканчиком на посошок, задавая провокационные вопросы, скажем: «Что такое религия?», «Почему мы позволяем белым у нас оставаться?», «Почему ислам не примет более просвещенных взглядов?». При подобных вопросах пробка вылетала у хозяина из бутылки.
Друзья его смутно стыдились, но стыд этот возник так давно, что перерос в какой-то особый тип любви. В его недостатках видели некую святую дурь, даруя привилегии: позволяли выхлестывать, сидя, целую бутылку бенедиктина, тошнить в пепельницу, изрекать грубые английские непристойности, выученные у военных моряков. Ему в любом случае многое можно было простить, так как он был не настоящим малайцем, а смесью малайца, китайца и голландца, только формально, поверхностно, вроде того самого красного перца, спрыснутой малайской пеной. Друзья, снисходительно жалея этот эксцентричный продукт смешанных браков, забывали о чужих клетках в своей собственной крови. Хаджа Зейнал Абидин перестал быть в основном афганцем; чи Абдулла больше не упоминал о сиамцах, впитанных с молоком матери; малютка Хусейн позабыл, что отец его – буги.[23] Рассуждая о малайском самоопределении, в действительности имели в виду, что ислам напугает китайцев картинами ада; но, возможно, даже этого не имели в виду. Сами слишком для добрых мусульман пристрастились к бутылке, целовали женщин, ели сомнительное мясо. Собственно, они точно не знали, чего хотят. Представителей среднего класса Кенчинга, не чересчур темных, не чересчур светлых, носивших мусульманские имена и фамилии, объединяли самые что ни на есть тонкие узы. Одной из них служил чи гуру Абдул Кадыр, козел с мохнатыми ногами, несший на спине их грехи, олицетворяя общий туманный образ истинного малайца (несуществующего) и истинного ислама (не особо желательного) в понятиях, которым подобные вещи не соответствуют. Разумеется, пара пива, непосещение время от времени мечети по пятницам казались не столь страшными рядом с Абдул Кадыром, который матерился, лежа в собственной блевотине.
Чи Норма с отвращением морщила плоский приплюснутый нос, пока слуга шваброй возил по ступенькам. Она любила гостей, но не любила, чтоб компания выходила из-под контроля. Когда она хозяйничала в двух каучуковых поместьях, гости были приличней: выпивали много виски, пели непристойные песни, но белые всегда понимали, что слишком далеко заходят; их, как правило, можно было держать в руках. (Чи Норма прекрасно знала, как держать в руках белого мужчину.) Но дай немного спиртного таким, как Мат бен Хусейн, Дин, Арифин, хаджа Зейнал Абидин, и можно ждать наихудшего. Столешница красивого китайского столика мутно запачкана плоскостопыми ступнями танцевавшего Арифина. Дин вольно пролил пену неловко открытого пива па персидский ковер. Кругом осколки стекла, готовые впиться в босую ногу. Даже чи Иза, всегда сходившая за леди коллега Абдул Кадыра, вела себя глупо, приставая к женатым мужчинам. Один Руперт демонстрировал разумную сдержанность. (Чи Норма выговаривала его имя на малайский манер, с метатезой: Руперет; последняя лабиальная глухая, не взрывная. Часто практиковалась в последнее время в произношении этого имени.) Руперт белый мужчина, его можно держать под контролем. Очень белый мужчина. Подумать только, что этот дурак хаджа предложил ему назваться в честь вшивого Кадыра, пьяницы и транжиры. Руперта назовут Абдуллой. Это имя ему дадут в мечети, под этим именем он будет похоронен. Дома по-прежнему будут звать Рупертом.
Чи Норма была хорошей малайкой, хорошей мусульманкой. То есть происходила она из семьи аче,[24] приехала с Северной Суматры, сама время от времени любила носить европейское платье, пила крепкую с розовым джином, проявляла невежество относительно содержанья Корана. Горячность и вспыльчивость аче вошли в поговорку, но ножами чи Норме служили лишь грозные взгляды и речи. Она опровергала европейское предубеждение – главным образом миссионерское предубеждение – о смиренности женщин Востока. Два мужа – первый голландец, второй англичанин – зачахли от непредсказуемых вспышек ее страсти и экспансивных сексуальных запросов. Пули коммунистов, дважды сделавшие чи Норму вдовой, просто в один яростный миг предупредили то, что с меньшей жестокостью совершило бы истощение.