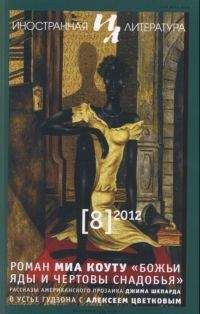Дмитрий Добродеев - Путешествие в Тунис
Курю сигарку за сигаркой. Ах, как похоже на подмосковный клуб 60-х, где танцевали под баян и под магнитофон «Комета»! Она подходит, чмокает меня в усталый лоб и говорит: «Умаялась, отбой, нам завтра рано вставать». Небрежно уходит. Не оборачиваясь. Опять бредовый импульс — пойти за ней? А если она откажет, а если я не покажу энергии борца? Ведь в 46 я не могу кипеть, как в 30. Тогда, на дачах, я мог гонять без устали, но времена прошли. Средний возраст современных русских — 57, в 40 они уже не могут, в 50 старики, в 57 умирают. Сказываются портвейн, курево, дурная пища советских лет и бесконечные беседы на кухнях — ничто так не сокращает жизнь. Половую в том числе. И русский эмигрант не исключение.
Выхожу во двор. Небосвод усыпан звездами. Последний оазис, ночь, бассейн. В окне прекрасной Инны свет — наверное, она наводит вечерний марафет. Торопится законсервировать последнее. Как окольцованный и небогатый, с детьми, я ей неинтересен, а просто завести романчик — ей этого не нужно тем более. Уровень тестостеронов в моей крови неумолимо снижается, и самки это чувствуют.
На небосводе — высыпали все сразу — мириады звезд. Личинка ты несчастная, почто дрожишь и бьешься? И этот оазис — так похож на нашу станицу — все те же звезды над плетнем и лай собаки — как в Нижнереченской, в 20-м, когда оставили лежать порубанным у этого плетня с глазами застывшими — в такое же мерцающее небо.
Жить надо — чтоб были и страсть, и полет, и восхищение, и чудо! Как в эту звездную ночь в Сахаре. В оазисе Фауар.
Большие фонари выхватывали световые зоны у бассейна: под стрекот цикад туда ползли неторопливо скорпионы — для них настала майская активная пора. Старик араб заснул в шезлонге с бутылкой кока-колы у ног. Лениво ползли скорпионы, и не хотелось спать. Я перевел глаза: окошко Инны уже потухло.
Через соленое озеро Шатт-эль-ДжаридПроснулись в пять утра, в автобусе сидели хмурые, глядели, как проплывает за окном гладчайшая и серебристая поверхность соленого озера — Шатт-эль-Джарид. Утро было пасмурное, пары низкой облачности заволокли окрестность. Настроение у наших было тоже среднее — ранняя побудка, качка автобуса, вчерашний алкоголь. Я глядел на ее шоколадные, сухощавые ляжки — скорее красивые, чем сексуальные. Она дремала или делала вид.
— Вот там, — сопровождающий Набиль вытянул мизинец, — пустыня. Покуда женская верблюд кормит детей, мужская верблюд идет в пустыня работать. (Молчание, ноль реакции.)
— А теперь, — сказал Набиль, покрепче взявши микрофон, — я поздравляю вас с праздником. Сегодня ваш праздник, не так ли? — В ответ — молчание. Прерываемое зевками и поскребываниями в затылке. — А чего сегодня? — спросила сороколетняя Таня с «Никоном». — Сегодня, товарищи, — сказал Набиль, — сегодня… — Никто не среагировал. Тогда он перебросил микрофон из правой в левую и начал напевать: «Это День Победы… со слезами на глазах…»
Ноль реакции. Абсолютное молчание. Кто впился зубами в помидор, купленный на вчерашней стоянке, кто прилаживал вокман на петлистых ушах, кто просто закрыл глаза с тлетворным выражением…
Набиль, однако, продолжил пение: «Прощай, девчонка, пройдут дожди…» Все та же тишина. Я понял, что он переживает. Ему сейчас 35, лет десять назад он учился, скажем, в Ростовском сельскохозяйственном. Он пил с друзьями русскими, по вечерам, в общаге на краю Ростова. Он полюбил Страну Советов за эту дружбу, за водку, за теплые подбрюшья девчат, за то, что был он свой — не как на Западе. Он уважал их мифы — и главный — День Победы. Однако ледяная тишина сих «новых русских» заставила его пресечься, содрогнуться. Наверное, они чего-то там не поняли.
Автобус притормозил у будки с сувенирами. Набиль гаркнул: «Налево — туалет, направо — сувениры. Нет, шучу. Направо — туалет, налево — сувениры!»
— Сережа, пойди посикай! — очнулась дама впереди меня. Мы вылезли. Застывшая соленая поверхность — до горизонта, и у обочины — подтеки розоватой, синей соли.
Ближе к Гафсу— Вот здесь, — продолжил гид, — старая мусульманская кладбища. Как только кто-то умирает — его завертывают в простыня, кладут в сундук, кладут, чтоб к Мекка головой. Чтоб в тот же день.
Кривые надгробия, звезда и полумесяц, — рядами, как спичечные коробки в пустыне. Смена жизней, бесконечная. Под ежедневные молитвы, омовения и пост.
Они пока умеют умирать. Не просят пощады у жизни, не цепляются за комфорт. Господа гяуры! Взгляните на Чечню, Афганистан. Они не ищут бессмертия в сатанинских кружках и сектах. Они не избегают смерти.
Я вспомнил, как в Ливии один старик схватился за сердце, закололо, пришел к врачу в бабушах (шлепанцах), тот посмотрел — ах, батюшки, так у тебя инфаркт! — А что это такое? — Все эти объяснения про холестериновые бляшки, что застилают стенки артерий и сосудов, про все эти диастолы и экстрасистолы — он просто бы не понял.
— Пора сундук заказывать! — Не так ли у Толстого и Тургенева — как раньше умирали в русских деревнях.
Обратный путь — оазис в ГафсеФаэтон, потрескивая рессорами, заехал в самую глубь оазиса. Финиковые пальмы в два обхвата, кусты жасмина и шиповника, а по земле — все виды огородных на маленьких деляночках. Здесь было душно и темно, как в настоящем лесу, однако сильно напоминало декорацию. Мутный ручей струился по камням, питая всю эту растительность. Квакали лягушки.
Мы пошли по тропке в самую чащу. Работавший мотыгой феллах, увидев нас, отставил мотыгу, сорвал дикую розу и тщательно отделил все шипы. Затем подарил цветок Инне. Монета в один динар была ему наградой.
— Какой он нежный, этот крестьянин. Даже шипы оборвал! — Инна была настроена романтически. И я, в костюме сафари цвета беж, чувствовал себя не английским колонизатором в Африке, а скорее, чеховским дачником начала века.
Ее восприятие было уже отмечено настырным желанием все прочувствовать, все подчинить своей прихоти, все купить, столь свойственным «новым русским», но часть ее реакций — глубинных и непосредственных — выдавала в ней извечную русскую идеалистку. Ту, что была воспитана родителями на «гуманных идеалах великой русской литературы». Почти что на принципах Белинского и Добролюбова, не говоря о столь модном в среде питерской интеллигенции «серебряном веке» русской литературы.
Когда мальчишка-извозчик, везший нас на фаэтоне, оглянулся и расплылся в улыбке, Инна сказала: «Ишь как стреляет глазками, дитя Сахары! И главное — какая хорошая улыбка. Совсем не голливудская. Здесь люди еще близки к природе и собственной сущности».
«Здесь у мужчин принято носить в сезон любви цветочек жасмина за ухом. Ты представляешь, идет, а у него жасмин за ухом. Значит, вышел на тропу любви. Один такой ко мне подошел. Кудрявый, красивый, и жасмин за ухом. Еле от его домогательств избавилась».
Она продолжила, прикрыв глаза: «Здесь я забываю грязный, холодный Питер, постоянные стрессы и поиски денег. Я просто не помню здесь всю эту нашу борьбу за существование».
— Лягушка, ляга! Какая огромная! — раздалось рядом по-русски. Мы оглянулись: ребенок тыкал пальцем в двух лягушек, размером с цыпленка каждая. Они сидели у ручья с полузакрытыми глазами, ритмически вздувая пузыри что за ушами. Они, лягушки, даже не сдвинулись с места, и этот восторг мальчишки быстро угас. Так быстро привыкаешь ко всему в глубинах Африки…
…В пионерском лагере «Родничок», что под Москвой, в недоброй памяти 1964-м я жарил лягушек на костре. Кто-то из ребят прочел, может, у Мопассана, а может, в рубрике «Это интересно» еженедельника «Неделя», что лапки лягушачьи — отменное лакомство.
И вот — мы развели костер в лесу, под соснами, и принялись искать лягушек. В низине у пруда их было множество — квакушек — и, взяв в охапку этих созданий, швырнули их в костер. Раздался истошный крик, потом все затихло, потом их очертания стали меняться — враз вытянулись ножки и вспухли животы, а кожа резко посветлела. — Готово! — мы вырвали по ножке и стали уплетать — ну просто чистая курятина (см. рассказ Бунина «Косцы»).
Еще с лягушками — я вспомнил — было другое, неприятное. Уже в конце 70-х, когда болел тяжелым вегетативным расстройством поздней брежневской эпохи, меня послали на картошку в совхоз Бородино. Там, в сентябре, по мглистой и сырой погоде, ходил в лесу — в дождевике, резиновых калошах. Жить не хотелось, кончать с собою было боязно. Осиновой клюкой сбивал я шляпки с сыроежек и прочих мухоморов. В траве сидела обычная зеленая лягушка. Я неожиданно проткнул ее заточенным концом клюки, завороженно наблюдая за агонией.
Наверное, в тот день убил я пять лягушек. Поскольку знал, что совершаю преступление и что душа моя все одно потеряна. Однако — то время прошло, прошла эпоха развитого социализма, цепей КГБ и прочее. Теперь я не убью и мухи. Теперь — свобода, теперь все другое. Теперь десятки тысяч челноков из бывших республик Союза тянутся в Турцию, Китай и Польшу — везут тюки товаров, торгуют на толкучках, которыми покрылась вся страна.