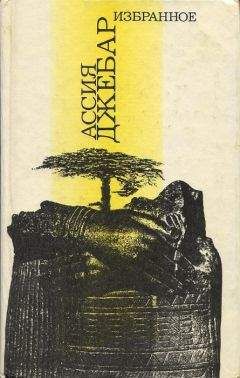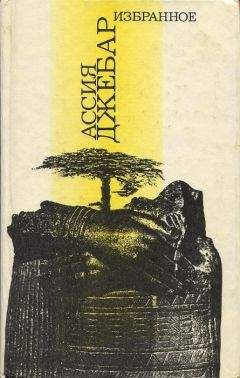Ассия Джебар - Нетерпеливые
— Вам бы следовало разгородить эту длинную комнату на две. Так ты была бы одна. Ты поступишь в университет. Тебе надо будет работать, как юноше, чтобы никто не мешал… У меня, к примеру, всего две комнаты. Ну так вот, я сказала Слиману, своему молодому брату: «Забирай одну комнату себе. Твоя учеба — это главное!» А в другой живу я вместе с сестрой и всеми племянницами.
Я оборвала ее болтовню:
— Лелла меня не стесняет. Меня вполне устраивает ее соседство.
Тамани бросила на меня лицемерный взгляд.
— Ты и впрямь хорошо уживаешься с Леллой Маликой… Немудрено — она ведь одних лет с твоей сестрой Шерифой… Что-то ее сегодня не видно часто она по утрам уходит?
Она повела Зинеб к доктору. — Я усмехнулась: — Так вот почему ты осмелилась подняться наверх?
Играя свою роль до конца — без всякого усилия и, на мой взгляд, даже с удовольствием, — Тамани воскликнула:
— Да говорю же: я хотела повидать тебя!.. Знаешь, я считаю тебя вроде как дочкой. В ту пору, когда была жива твоя мать, — тебе было лет пять-шесть, я так хорошо тебя помню, я постоянно бывала у вас. А теперь, когда твой брат встречается со мной, он даже меня не поприветствует проходит мимо и показывает мне спину, как будто я дьявол во плоти.
Она захныкала, продолжая что-то бубнить, но я уже не слушала ее. Я вновь переживала то время… о нем мне однажды рассказала Шерифа.
Время, когда мой отец, Си Абделазиз, показывался в доме только раз в неделю, чересчур поглощенный своими обязанностями аги[2] и женщинами, сменявшими одна другую в квартире, которую он снял в европейском городе, — это если он не пропадал в Париже, уверяя французов в полной поддержке «преданного и благодарного туземного населения»… Или где-нибудь на водах, где изгибал свой высокий стан арабского рыцаря пред элегантными дамами. Тем временем моя мать с непроницаемым под морщинами лицом принимала жен просителей, присутствовала на церемониях, где должна была представлять самый старинный в здешних краях религиозный род. Поведала Шерифа и о роли Тамани, об «отеческом» интересе, который проявлял мой отец к этой дочери одного из своих слуг, — интересе, о котором еще долго перешептывались за его спиной на каждом углу. И, похоже, не без причины, настолько этот человек стал под конец пренебрегать принятыми в нашем обществе правилами приличия.
От той поры и шел отсчет ненависти Фарида к этой женщине, Тамани; она усвоила привычку относиться к остальным с пренебрежительной фамильярностью, как если бы ее вечно осеняло покровительство Си Абделазиза. Должно быть, в память об этом своем возвышении она так горделиво украшала жирную грудь своими ожерельями, своей связкой из наполеоновских луидоров; должно быть, это свою ушедшую молодость, обласканную циничным сластолюбцем, она сотрясала желеобразной плотью, вышагивая на свадьбах среди честных и строгих матерей буржуазных семейств. Тогда она кичливо похвалялась перед ними:
— Вот этим самым золотом я оплачу своему брату Слиману врачебный кабинет. Он скоро закончит учебу, и тогда я женю его на ком захочу…
Я вернулась в настоящее. Тамани продолжала свою нескончаемую речь:
— Как подумаю, что теперь, чтобы повидаться с тобой, я должна таиться!.. Но за что же на меня ополчилась Лелла Малика! Я ничего ей не сделала! Наоборот… После смерти твоей матери, когда твоему отцу понадобилось жениться вторично, если б я вовремя не сказала ему, что видела у Юсефов красивую девушку, кому бы пришло в голову искать жену в этом полудеревенском семействе — они ведь только-только переехали в Алжир.
— Ты хорошо знаешь Юсефов?
Пробуждавшееся во мне любопытство толкало меня ухватиться даже за тонкую ниточку.
— О, я как все… Теперь у них самая роскошная мавританская баня в городе. А раньше, когда твоя мачеха жила еще с ними, у них была совсем крохотная, в Белькуре… С тех пор они далеко шагнули вперед… крупными делами ворочают…
— Значит, впервые ты увидела Леллу там, в Белькуре?
— Да… Она приехала вместе с ними в Алжир. Ее родители умерли, и из родственников у нее оставалась только жена Юсефа… Какая-то дальняя кузина… — Тамани призадумалась. Они, верно, почувствовали, что сумеют выгодно выдать ее замуж. Толстяк Юсеф без выгоды и пальцем не шевельнет… Потому и поставили ее за прилавок, у кассы, чтобы ее видели все посетительницы.
Наступила пауза. Мне не хотелось ее расспрашивать; в конце концов она, оживившись, сама добавила:
— Да ты ведь их знаешь, Юсефов!
— Совсем чуть-чуть, — ответила я. — Они уже так давно здесь не бывают. От случая к случаю, очень редко, нас навещает старуха. И все.
Но ведь еще и мать, и ее дочь, хромоножка Дабия… Уж Шерифа-то должна ее знать: она с твоей теткой теперь ходит в их баню. А почему ты не ходишь туда, с Леллой?
Я не ответила. Тамани наклонилась ко мне, наградила влажным поцелуем. Поднялась, потом снова нагнулась, чтобы заговорщицки шепнуть мне на ухо:
— Скажи-ка мне одну вещь…
С заколотившимся вдруг сердцем я ждала продолжения.
Зинеб беременна? Ведь она уже шесть месяцев как замужем.
— Понятия не имею.
— Но ты сама говорила, что твоя мачеха повела ее к доктору.
— Я ничего не знаю! — вскричала я.
Тамани ушла. Я слышала, как она грузной поступью спускается по лестнице, громогласно прощается с моими тетками. Зачем она приходила? Из-за Зинеб? Разузнать, не слышала ли я чего-нибудь краем уха?.. Я была довольна, что ничем не выдала своих подозрений по поводу Леллы. Но кое-что Тамани, сама того не подозревая, все-таки заронила во мне, когда спросила: «Ты не ходишь в эту мавританскую баню?»
Почему бы и не сходить туда? Почему бы не вернуться к тебе, Лелла, к тому, что угрожающе блуждает во мраке и с чем я до сих пор не решалась встретиться лицом к лицу? Ведь как ни крути, а никуда не деться от невероятного факта, над которым я никогда не задумывалась: у Леллы есть прошлое.
* * *
В последующие дни я прикрывалась своей ленью, как щитом. Не вылезала из кровати. Дважды в день забегала Зинеб и кротко, почти боязливо предлагала:
— Иди поешь…
— Не хочется.
— Ты заболела?
Нет.
Иди поешь… Фарид спрашивает о тебе…
Есть мне не хотелось. Сама мысль о пище внушала отвращение. Напуганная, Зинеб исчезала. Вскоре появлялась Лелла и холодно допытывалась:
— Ты заболела?
— Не хочется есть, и все.
— Если это каприз…
Это был каприз. Она не ошибалась. Я вдруг осознала, что это упрямство — не более чем желание увидеть, как домашние будут суетиться вокруг меня; так мне было удобнее протестовать против судьбы. Это был каприз. Достаточно было Лелле сказать это вслух, чтобы передо мною предстала вся нелепость моего поведения; этим ребяческим упрямством я убивала в себе обиду, которую нанес мне Салим.
Я встала. Положив конец тому, в чем я хотела видеть этакий церемониал страдания, я призналась себе, что еще не достойна настоящей любовной муки.
* * *
Мавританская баня была полна детей, которых женщины приводят по четвергам и моют всем скопом, пока те по привычке голосят неутомимым хором. Я слышала их долгие усталые вопли в холодном зале, где отдыхала, растянувшись на плиточном полу у бассейна.
Вокруг меня щебетали женщины в одинаковых цветных лоскутах. Мимо прошла Шерифа, обернутая в полотенце: она уже вымылась. Она никогда не проводила в парилке больше получаса; потом она в полубессознательном состоянии долго отдыхала на матрасе в предбаннике.
Я заказала апельсины и теперь ела их, погрузив ноги в ледяную воду бассейна. Мне было хорошо. Время от времени распахивалась дверь, отделявшая нас от парилок, сердца хаммама, и тогда до нас доносились приглушенные паром разнообразные звуки: сонные выкрики детей, журчание воды на раскаленных плитках, хлопки массажисток по спинам толстух. Я снова окунала ноги в холодную воду, очищала от кожуры очередной апельсин, и сок его стекал с моих щек. Не шевелясь, я наслаждалась телесной истомой.
Внезапно я вздрогнула от звуков знакомого голоса. Это явилась Тамани. Обернутая широченным лоскутом в зеленую полоску, который был завязан над необъятной грудью, она казалась голой. Должно быть, о том, что я здесь, она узнала от Шерифы, так что, увидев меня, не удивилась. Она выросла передо мной.
Так, значит, ты пришла? — благодушно спросила она.
Не дожидаясь ответа, она села рядом. Распустив влажные волосы, она принялась расчесывать их плавными движениями. Я смотрела, как черепаховый гребень скользит по ее черным волосам; теперь они спускались занавесом вокруг ее огромной головы. Сидя вот так, с прядями, образующими как бы пучок длинных корней, она походила на какое-то чудовищное ядовитое растение. Вокруг прохаживались женщины. Они ступали горделиво, запрокинув голову под тяжестью ниспадающих до бедер волос. Одна лишь Тамани с ее плотоядным смехом и громким голосом вносила в этот мир демоническую ноту. Но вот она кончила причесываться и уставилась на меня, повторяя: