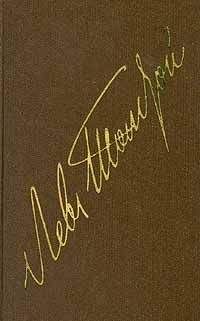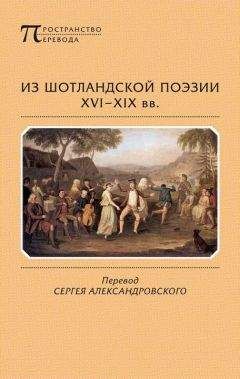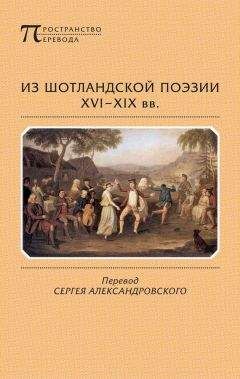Евгения Берлина - Чужой Бог
Маленький остролицый человек в потёртой джинсовой куртке и его приятельница со взбитыми надо лбом серыми волосами казались пародийными, живущими фальшивыми мыслями и чувствами — в обществе спортивной элиты (куда он был вхож благодаря старым связям) они оба изо всех сил старались сохранить неестественное величие в словах и движениях.
— Ах, мне хочется видеть мир его глазами и нравиться, нравиться ему, — откровенничала женщина.
Её сиреневое платье, шепеляво вывернутые слова, скомканные манерные фразы (плод воспитания в мещанской семье) и чувственная безмерность, неловкая для окружающих, — всё это в сочетании со стремлением Петушкова казаться героем невольно рождало недоверие к этой паре. Хотя говорили, что когда-то он был действительно хорошим гонщиком, выступал даже в Чехословакии и Польше от нашей страны, гордился «особенной» петлёй и позволял себе похвастаться восторженной девице в компании:
— Я ни в чем не принуждаю себя, я просто приближаюсь к тайне, которую надо разгадать…
Эту дежурную фразу он повторил и Кике, последней своей приятельнице, когда при резком и близком крике чужого мотоцикла, за которым угадывалось тяжёлое движение живого существа, непонятная сила сжала на мгновение тело Петушкова, глаза заблестели, — и она, по натуре не склонная к анализу, подумала, как он одинок, проводя жизнь в непрерывном испытании себя, и тайна, которую он пытается отгадать, — это смерть.
Кика невольно отшатнулась от него, ей с её любовью к эпатажу и выдуманным ужасам стало страшно.
За два года до встречи с ней Петушков чуть не разбился во время соревнований в Прикарпатье: трасса была незнакомая, особой сложности, его товарищ погиб, а он остался жить, полгода провёл в больницах. Когда явился к своему тренеру — с покалеченными руками, нищий, болезненно вздрагивающий от каждого резкого звука, — старик понял, что он не сможет выступать, и даже не из-за травмы: он «выпал из обоймы» — точнее тренер не смог бы определить его нынешний социальный статус.
И Петушков ни с чем вернулся в свою комнату, казавшуюся нежилой, и вспоминал, как обещал тренеру написать заявление о выходе из команды, из спортобщества, а потом много дней тянул с этим заявлением, проводя время в кинотеатрах, кафе, выбирая девочек помоложе и хвастаясь своим прошлым.
Его настойчивости побаивались, а когда выяснялось, что ему надо просто выговориться, то смеялись, плохо вслушиваясь в слова, приглушённо звучащие в тёмном углу маленького кафе:
— Нас занесло на мокрой дороге, там была ещё колдобина, меня — об дерево и отбросило в сторону, но я успел понять, что машина разваливается, понимаешь, распадается на куски.
Он так долго был един со своим мотоциклом, что испытал чувство ужаса, которое не прошло в больнице, и уже не смог тренироваться.
Эти воспоминания в вялом, тоскующем человеке будили желание жить, и он обращался уже только к своей душе. В эти мгновения он был особенно беззащитен.
Незадолго до встречи с Кикой несколько бывших приятелей стали свидетелями истерики Петушкова, когда он, выпив вина, потерял власть над собой, судорога прошла вдоль ею тела, и он, широко раскрыв полные смятения глаза, сказал о себе в третьем лице:
— Петушков стал бояться, — и немного погодя, в демагогическом пылу изрёк: — Перестал доверять себе.
В тот вечер, выйдя от приятелей и с отвращением и испугом прислушиваясь к своей душе, он встретил Кику в маленьком кафе — дверь, ведущая в зал дискотеки, буквально вытолкнула её в то время, когда затуманенное сознание Петушкова лениво выделяло то одно лицо, то другое.
Его поразила увядающая красота её лица — момент ухода из молодости, так старательно продолженный на неопределённое время косметикой и массажем, что делало её безликой.
Человек чувственный и слабый, не имеющий точных понятий о прекрасном, он жаждал красоты. Возможно, в Кике он бессознательно почувствовал отражение своего «я».
Ничто так не запоминается, как прозрение в своей значительности или ничтожности. Разговаривая с ней, он жалел её и испытывал облегчение.
Они просидели в баре до закрытия и рассказывали друг другу о себе, стремясь к новым ощущениям, и, конечно, его воспоминания о мотогонках восхищали её больше, чем его — запутанные откровения о её неудавшихся браках.
Потом они ехали в такси по ночному шоссе, пятна света падали на лица, напряжение лучей искусственного света, вытянутых поперёк тёмного неба, было похоже на истинную страсть и завораживало их.
В его комнате она с любопытством дотрагивалась до вымпелов и наград, и ей хотелось вспоминать детство, даже возникла смутная потребность душевного очищения — спорт часто подобен храму, где хочется быть нравственнее.
Комната в полутьме казалась пустой и мрачной, а рубцы света и тени смутно напоминали рождение страсти. Он торопливо, жадно раздевал её, но его нетерпение скоро прошло, и она близко увидела в его глазах подозрительность и тусклый отблеск того огня, который так волновал её накануне.
Мысль о греховности на минуту заняла его.
«Я грешен, но я хочу быть», — подумал он, вспоминая более всего свой неуместный страх мотоцикла.
— Как я мерзок, — громко прошептал он. — Бывший гонщик, трус
Кика молчала. Она догадывалась, что мучает его — их более всего соединяла жажда идеала, такая сильная и наивная в неокрепших душах.
И всё же её насмешливые слова о том, что все хотят быть лучше, уже готовы были прозвучать в комнате диссонансом и достойной отповедью его слабости, но она молчала, сознавая, что, если только произнесёт их, они с Петушковым останутся чужими.
Сила отчаяния, равная силе любви, соединила их в тот вечер столь же прочно. Они доверились друг другу, старались в торопливых монологах понять свои души — и нечто бессвязное, похожее на клятву или молитву, время от времени звучало в комнате.
Кика, видимо, точно поняла свою роль и искренне решила доказать Петушкову, что он лучше, чем кажется себе.
В её готовности любить было вздорное начало, поэтому даже жалость казалась ей сейчас непристойностью. К рассвету они решили, что Петушков снова должен выступать в мотогонках, в то утро она рьяно жарила ему мясо и уверяла, что он великий гонщик.
Петушков же иногда чувствовал себя грешником, готовящимся совершить новый грех. Он добровольно попал под гипноз силы, вызванной отчаянием, и думал, что у него нет выхода.
Новый тренер Петушкова, равнодушный и усталый, закрывал глаза на многое. Но втайне все были уверены, что в последний момент Петушков снимет свою кандидатуру.
Ему трудно было приучить себя к мысли, что он должен, по крайней мере, умереть героем. Выбрав, они с Кикой только подчинились своему выбору.
Между тем время гонок приближалось. Петушков тренировался плохо и всё чаще думал, что ему надо оставить эту затею. Ему вовсе не хотелось умирать, он даже тайком выпивал, чтобы на какое-то время не думать о предстоящих соревнованиях (его никто не проверял — как спортсмена однозначно бесперспективного).
Возможно, Петушков отказался бы от этой затеи — роль отверженного тоже была сладка для его слабой души, но Кика ни за что не поменяла бы свою теперешнюю жизнь жены героя.
Гонщики посмеивались над этой парочкой, спешащей на тренировки.
Между тем, хотя тело его ленилось и болело, душа приготовлялась. Часто возвращалось ощущение греховности, запретности того, что он делает.
Её же героизм напоминал героизм змеи, он был рождён злобой на жизнь и рождал злобу. Она невольно приучала Петушкова к мысли, что ему предстоит умереть.
В последние дни перед стартом он капризничал, жаловался всем на Кику, то представлял себя лёгким, красивым, удачливым, каким был когда-то, или вдруг говорил, что Бог против него, потому что Бог — это вся жизнь.
Когда он выезжал на трассу, было грязно и пасмурно, только что прошёл, дождь, и у него дрожали руки. Всё повторялось, как в Прикарпатье, и он обернулся к Кике, чтобы сказать ей это. Но, увидев на её лице торжество, промолчал.
Когда он погиб, Кика величественно стояла у гроба, где лежал он, маленький и жалкий, принимала соболезнования, и на её лице, уже старом и морщинистом, был покой.
Идущие по одной дороге
Леонид Матвеевич слышит в прихожей голос зятя, молодой, нервный и горячий, сильный своей вопросительной интонацией. Кирилл спрашивает:
— Дома Леонид Матвеевич? — и в следующую минуту уже жмёт ему руку, шутливо раскланивается, как бы подчёркивая, что всё происходящее несерьёзно, что это пародия на жизнь.
«Что за ерничество?» — думает недовольно Леонид Матвеевич.
Лесенка мелодичных звуков дверного звонка, куртка с разорванной петлёй, красноватые от электрокамина свет и воздух гостиной — гость уже в кресле и по выражению его лица заметно, как он нервничает.