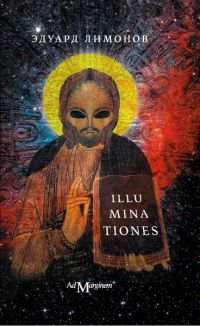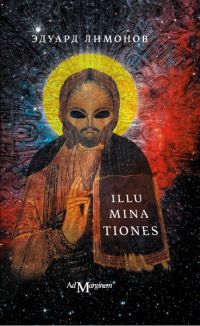Марек Хласко - Красивые, двадцатилетние
В госхоз я приехал вечером; директор мгновенно сообразил, что подвернулся случай достойно принять столичного гостя, и повел меня к герою-любовнику своего театра. Любовник как раз занимался приготовлением колбас из свиньи, которую накануне вместе с директором украл и зарезал. Мы скоротали вечер за дружеской беседой о высоких материях, наперебой произнося тосты и дегустируя колбасы, и завалились спать. На следующий вечер все собрались в клубе. Опять же в честь гостя из Варшавы руководительница театрального коллектива велела местному тенору спеть что-нибудь перед спектаклем. На сцену выбежал молодой человек и заревел: «Я люблю тебя, Сан-Ремо, белый город у моря...» Зрители — крестьяне в ватниках — от изумления вытаращили глаза; я же от души веселился. Затем начался спектакль; когда главный герой — персонаж благородный и экзальтированный — произносил длинную тираду, прославлявшую токарные станки, дружбу с Советским Союзом и т. п., на сцену влетел какой-то тип и с криком: «Будешь знать, как е... Ядьку» — вонзил в грудь героя нож. У них был какой-то конфликт на любовной почве. Репортаж не был написан.
Я вернулся в Варшаву. В это время у меня уже был договор с издательством «Искры». Директор «Искр», Целина Мильская, зная, что я постоянно нищенствую, послала меня к Владиславу Броневскому, чтобы вместе с ним составить сборник стихотворений, адресованных молодежному читателю. «Искры» выпускали книги для молодежного читателя. И в данном случае я сознательно не употребляю кавычек. Конечно, можно было написать: «молодому читателю». Но мне хочется сохранить язык того времени: странную смесь бытового жаргона, официальных коммюнике, языка партсобраний и уличного сленга. Я еще слишком молод и слишком мало значу, чтобы писать воспоминания. Я просто пишу о людях, которых знал и любил. Как я уже говорил, именно этим людям я хочу объяснить, почему не живу в Варшаве. Я им всем многим обязан; я не перестал их любить и забыть не могу. Хотя, быть может, напрасно; читая вчера ночью книгу Адольфа Рудницкого — одного из тех, кто мне помогал и которому я за многое благодарен, — я наткнулся на такую фразу: «Когда ровно два года назад один молодой человек «из нашего круга» уехал и в Париже принялся вешать на нас всех собак, я спросил себя: «Ему дадут больше денег, больше свободы, больше всего, но чем ему заменят среду? Откуда для него возьмут среду? И что он без среды станет делать?» Неужели речь шла обо мне? На кого же это я «вешал собак»? И даже если сказал, что хочу жить в такой стране, где братский порыв не оборачивается самоуничтожением, разве не о том же самом — и только о том — вопиют все книги Рудницкого? Или Рудницкий уже разучился думать?
Итак, я отправился к Владиславу Броневскому, который тогда жил на Мокотове. Броневский отказался обсуждать состав сборника без предварительной заправки горючим; после напряженной внутренней борьбы я сдался. Странное дело: офицер легионов[21], беспартийный коммунист, узник наших раздражительных братьев, самый польский поэт, какого только можно вообразить, нуждался в коммунизме — правда, лишь по одной причине: он, Броневский, обожал о коммунизме писать. Остальное его не интересовало, и в конъюнктурности поэта никак нельзя было упрекнуть. При этом Броневский, как всякий уважающий себя шляхтич, бывал дерзок с властями; он сам мне рассказывал, как Берут однажды пригласил его в Бельведер и, взявши под руку, повел в сад, где внезапно сказал: «Товарищ Броневский, пора бы вам написать новый национальный гимн». Броневский послал его ко всем чертям, после чего сочинил стихотворение, в котором писал, что кланяется советской революции по-польски, в пояс.
Я уже плохо помню свое пребывание в доме Броневского, но один трагический эпизод врезался в память.
В один прекрасный день Броневский решил бросить пить и засел за новые стихи, вначале дело у него пошло неплохо. Примерно через час позвонил кто-то из знакомых и поинтересовался, что слышно; Броневский сказал, что взялся за работу и надеется месяц-другой основательно потрудиться. На свою беду он сообщил, что не пьет; собеседник поздравил его, и на том разговор окончился; Броневский снова сел за письменный стол. Через пятнадцать минут опять раздался звонок; некто, узнавший от предыдущего собеседника поэта, что тот бросил пить, позвонил, чтоб его поздравить и попросить не отступаться от принятого решения; Броневский его поблагодарил и снова принялся за работу. Спустя десять минут новый звонок; новое предостережение и благодарность Броневского. На восьмой раз позвонил товарищ Якуб[22]; Броневский, бледный и трясущийся, пришел ко мне и сказал: «Беги за водкой». После чего рассказал, что в день смерти единственной любимой дочери его прямо с кладбища увезли в Вонещь, в лечебницу для алкоголиков — по распоряжению ЦК.
Нет лучше способа вогнать завязавшего алкоголика в запой, чем напоминать, что его ждет, если он снова начнет пить; знай об этом доброжелатели, они бы, возможно, воздержались от своих проклятых советов. Люди никак не поймут, что чувству благодарности сопутствует страшная ненависть. Я бы этого не написал, если б мне самому не отравили полжизни предостережениями и вмешательством в мои дела.
Итак, у Броневского начался запой, затянувшийся на много дней. Странный он был алкоголик; мог быть вдребезину пьян и едва держаться на ногах, но, стоило мне начать декламировать, например, «Милую улицу» и перепутать хотя бы одно слово, немедленно меня поправлял, причем довольно-таки резко. Мне жаль Броневского; люди его замучили; мучили, наверное, всю жизнь. Он был чудак; капитан легионеров, кавалер ордена Виртути Милитари гордился, что получил этот орден за борьбу с большевиками, которым кланялся в пояс. Узник сталинских тюрем, он, поинтересовавшись однажды моим мнением о Сталине и услышав в ответ, что мне трудно что-либо сказать, так как я боюсь бандитов, от которых некуда убежать, — пришел в ярость, что едва не окончилось для меня трагически, о чем ниже. Неважно было, что Зютек Солнышко угробил сколько-то там миллионов и выстроил величайший в мире концлагерь, неважно было, что сам поэт сидел в советской тюрьме, — его возмутило, что я оскорбил человека, в честь которого он, Владислав Броневский, писал стихи. Дрожа от бешенства, он побежал наверх; через минуту вниз скатилась перепуганная домработница и посоветовала мне немедленно убираться, потому что пан Броневский пьян и звонит в Управление безопасности. Я схватил пальто и опрометью помчался куда глаза глядят.
После 1956 года этому, уже старому и больному, человеку хватило мужества подойти ко мне, сопляку, и сказать, что он просит у меня прощения. Не извиняется, а просит прощения. Мне стало неловко; мы пошли выпить по рюмочке, и опять Броневский вправлял мне мозги, пока мы оба не отключились и не уснули на одной постели, причем я спал, прижавшись к нему, как щенок. Я часто о нем думаю; я думал о нем, когда читал замечательное эссе Милоша о Галчинском. Неужели и Броневский был придворным поэтом? Мерошевский написал, что Броневский представления не имел о марксизме, диалектике, экономике и политике. Коммунизм зачаровывал его своей живописностью — мчавшиеся на него в двадцатом году орды Тухачевского, печи Магнитогорска, электростанции на Волге, Беломорканал, на строительстве которого полегло неведомо сколько тысяч; сибирские батальоны, идущие на выручку Москве, речи генералиссимуса Сталина, когда тот своим хрипловатым голосом призывал советский народ к священной войне за родину, — вот такой коммунизм увлекал Броневского. До всего прочего ему не было дела; он даже простил коммунистам свое пребывание в тюрьме, поскольку мог писать о коммунизме стихи. По счастью, ночные звонки Броневского никто не воспринимал всерьез; иначе для меня это могло бы кончиться весьма печально.
Но ведь если разобраться — я такой же поляк, как он. Думать о нем иначе как хорошо я не смогу; перестать читать его стихи не смогу; и любить их тоже не перестану. А думая о Броневском, я всегда вспоминаю гениальную сцену смерти из «Войны и мира», когда один человек умирает, а другой спрашивает: «Где он теперь?» Я тоже себя спрашиваю: где он теперь? Где этот коммунист, ненавидевший партию; этот большевик, получивший орден за доблесть, проявленную в войне с другими большевиками; этот сталинский узник, который хотел посадить человека за то, что тот оскорбил сто мучителя; этот великий несчастный поэт и добрый человек — где он теперь? Существует ли для нас, людей, такое место, где — как в известной негритянской песне — встретимся мы все: чистые, добрые, не таящие гнева? А если встретимся, то о чем Владислав Броневский будет писать и во что верить?
Репортер самой смелой польской газеты
Не помню уж, как я прибился к группе «По просту». Стараясь сегодня понять, каким образом я стал сотрудником этой газеты и как вообще туда попал, я нахожу лишь одно логическое объяснение. На первом этаже здания, в котором помещалась редакция самого смелого по тем временам польского еженедельника, был бар «Йонтек». Вероятно, однажды я ошибся и случайно зашел в редакцию «По просту» с намерением заказать большую рюмку водки и селедочку по-японски. Решительно не понимаю, почему меня сразу же без лишних слов оттуда не выгнали. Правда, это случилось несколькими месяцами позже, так что композиционный рисунок моей судьбы не был нарушен.