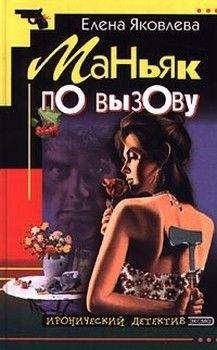Георгий Пряхин - Хазарские сны
Немудрено, что самые талантливые и закосневали чаще всего в тихой ненависти-лености перед авторучкой, что бывает-таки, вопреки мнению простонародья, тяжелее лома.
Едучи собкором в Волгоград, тем более после люсьеновских наставлений, Сергей тоже настраивался на борьбу. Но все сложилось иначе. Ошиблась Люсьена.
Воронин сделал его по-настоящему знаменитым — на несколько месяцев.
* * *Воронин разгадал Сергея с первого взгляда. Понял, что в Волгограде он не жилец. Что ничем он здесь не обрастет, не укоренится. Не заживет, как шелкопряд, здешней жизнью, пропуская ее через себя, сквозь туннельную черноту, соединяющую вход и выхлоп, и перерабатывая ее в нечто полезное для человечества. Нет. Транзит. Вожделенный транзит! — прочитал насмешливо Воронин в Серегиных лихорадочных глазах. Все устремления — поверх здешней жизни и даже жизни в целом, куда-то в сторону Москвы, где по представлениям таких вот лихорадочных только и начинается та самая жизнь, что достойна не только осязания, но и воображения. И другое разглядел Воронин в Сергее с первой встречи в своем официозном, лишенном каких-либо индивидуальных примет кабинете. Тысячи подобных кирпично удлиненных кабинетов выстроились в воздушном пространстве страны, заключая в себя, запаивая и холодный воздух власти, ячейками которой они являлись, и саму ее аскетическую конструкцию: ячеистая, как Стена Плача, стенка эта во всю свою неимоверную высоту, шар за шаром, как говорят каменщики и могильщики, являла миру запеченных в ее янтарных нежных внутренностях породистых мужиков в галстуках — вплоть до главного, до Леонида Ильича, регулярно выглядывавшего, правда, уже не натурально, не вживе, а, как и положено всевышнему, из газет и телевизора, экран которого также напоминал чем-то матово отсвечивающий персональный апартамент. В кабинет этот Сергея привел Володя Поляков, гибкий, трепетный, поскольку тоже всегда между молотом и наковальней, между редакцией и собкором, заведующий корсетью «Комсомольской правды» — представить первому секретарю.
И Воронин сразу глянул Сереге в самую душу. Вроде душу и привели ему сюда на веревочке. На смотрины.
И то другое, что сразу же разглядел в Сереге Воронин, было следующее.
Перед ним сидела, скромно приткнувшись за полированным столом, не жизнь. Это даже правильнее писать через черточку: «не-жизнь».
Сергей, определил с ходу Воронин, делал биографию.
Воронин же делал карьеру и не собирался отвлекаться на Сергея. Ко времени их знакомства ему было лет тридцать пять. Он был хорошо образован — окончил с отличием строительный институт и учился заочно в Высшей партшколе — и щеголеват. Твердый, выпуклый, как шляпка у гвоздя, который все привык добывать головой, лоб, тяжелые, профессорские очки, хорошие, не провинциальные костюмы. Он был сдержан не только с Сергеем — водку в кабинете, задернув шторы, не разливал, в лесополосе с «активом» не рассиживался, не горланил спьяну казачьи песни, хотя, как позже убедился Сергей, знал их неплохо. Та самая простота, что хуже воровства, в нем напрочь отсутствовала. Таких нередко остерегаются даже в своей братии: то, что народ в массе своей воспринимает как службу, как нахабу и не стесняется такого своего восприятия и даже, самые раскованные и рисковые, кичатся им, эти, молчаливо мнящие себя чьими-то, не народа ли? — избранниками, воспринимают как служение. Путают грешное с праведным.
Воронин даже не служил — готовился к служению, что бывает еще заметнее. Проходил обязательное комсомольское послушание — перед тем, как принять партийный постриг. Не хозяйственный воротила, не высокопоставленный бонза советских органов — Воронин видел себя только в партии.
У него и вид был великовозрастного послушника: на все пуговицы застегнут, голова почтительно склоняется набок, но серые глаза, увеличенные толстыми стеклами очков, счастливой слезой не тают и голос почему-то не дрожит.
Его любил и выделял первый секретарь обкома партии Куличенко. Но любил и выделял в первую очередь как не похожего на него самого, тяжелого, словно чугунная чушка, каковой заколачивают сваи, с подтаявшими висками, закоренелого «практика», что академиев не кончал, но связан с жизнью, подогнан к ней вплотную: с подчиненными яр, однако высокого московского начальства боится почему-то неистребимо, о чем, правда, догадывается одна лишь тяжелая, самая тяжелая телефонная трубка, ибо, как только зазвонит «вэчэ», первый выставлял из кабинета кого бы то ни было, даже помощника, что только что составлял ему речь.
В таких ответственных разговорах и без помощников обойдемся. Сами составим.
Непохожего не только на него самого, но и на его, Куличенко, ближайшее окружение, тоже зажелезившееся, но с предательским школярским голосником в дородном, хорошо обшитом, словно ватою обложенном нутре: чуть рявкнешь, расслабившись, и человек уже дрожит, как лист перед травой.
И вата, самое удивительное, подрагивает, будто не голосом, а хорошим арапником по ней прошлись. Несовершенен, несовершенен, что ни говори, человеческий материал. Надо бы человека из другого матерьяла месить, — чтобы больше на человека походил.
Этот- другой.
Куличенко присмотрел парня еще в райкоме комсомола и потихонечку, исподтишка «вел» его: ему почему-то хотелось, чтобы со временем, со временем, конечно, на смену ему, крутой, целинной закваски Хозяину, Отцу — его так и звали в области в зависимости от конкретных обстоятельств и крутизны наклона: по стойке «смирно» или «расслабиться» — пришел именно этот. Как бы сын.
Другой.
Не первая зима на волка, и что-то подсказывало Старому Волку: чтобы дело не лопнуло, не обернулось швахом, на смену им, старым и стреляным, должны придти вот такие, образованные, спокойные и нестреляные. Без дрожи в коленках.
Куличенко настораживало спесивое воспроизводство себе подобных. Знал, шкурой чувствовал: это даже не партийное, а генетическое — вырождение.
И, забегая вперед, надо сказать: он, ничего не говоря Воронину о задуманном, почти довел его до заветной, и для Воронина втайне тоже, — цели. Сделал со временем секретарем обкома партии по идеологии, а затем — у какого же Первого нет в Москве не только своей руки, но и своих клевретов! — и сотрудником Орготдела ЦК КПСС.
Из Орготдела путь один — только в Первые. Со временем, конечно, со временем: нас пока тоже списывать рановато.
Да другие подоспели перемены: с первого на горячее.
Коня куют, а жаба лапу задирает.
У Сергея сложились с Ворониным ровные, доброжелательные отношения. Воронин внимательно следил за всем, что печатал в «Комсомолке» Сергей, и находил возможность двумя-тремя нестертыми, недежурными словами, по телефону ли, при личной встрече, обмолвиться с ним о прочитанном. Очерки о молоденьких учительницах из глубинки — деревенские «кавалеры» не оставляли их своим вниманием даже в хатке, которую снимали четыре городских девчонки: с наступлением сумерек занимали позиции в кроне старого клена, росшего напротив их окон, и старались разглядеть сквозь тюлевые занавески укромную, юную жизнь пригожих горожанок, — о селекционерах с сортоиспытательной «арбузной» станции. О «следах» знаменитого путешественника и естествоиспытателя Палласа в заволжских степях.
О соленом озере Эльтон, на глинистом берегу которого догнивают деревянные останки построенной некогда по распоряжению Николая Второго кумысолечебницы для низших чинов русской армии, потерявших здоровье в русско-японской войне 1904–1905 годов. Правда, только ли от туберкулеза лечили на Эльтоне? Сергей навсегда запомнил картину, увиденную на озере, что на самой границе с Казахстаном, ранним-ранним утром. Мужчина, уже не парень, носит на руках женщину, тоже уже далеко не девочку. Озеро мелкое, с километр можно идти — и все не скроешься с головой. А утонуть и вовсе невозможно: на эльтонской воде лежишь, как на хорошей перине — не проваливаешься. Мужчина в трусах, а женщина так прямо в платье, он, тоже удерживая ее совершенно свободно на весу, долгими, медленными, как у большой степной птицы, кругами ходил со своей живой ношей метрах в пятидесяти от берега. Вода парила, становилась, наверное, еще солонее, восходящее солнце пронизывало, пропитывало этот парок, превращая его в зарю: пара словно бы и не касалась не только земли, но и воды. Брела, будто по Христовым следам. Не то по воде, не то, журавлиными кругами, уже в небесах. Тут не было баловства — скорее ворожба: двигались они молча, сосредоточенно, печально. Рядом, на берегу, стоял грузовичок, бензовоз — на нем они и приехали сюда. Сергей вопросительно посмотрел на сопровождавшего его в экскурсии секретаря райкома комсомола:
— Что это значит?
— Лечатся от бесплодия. Есть такое поверье: муж на заре должен пронести жену на руках по эльтонской воде…
Ну да. Потомки солдат русско-японской воевали в сороковых в русско-германскую — и их, количественно, на эту войну хватило.