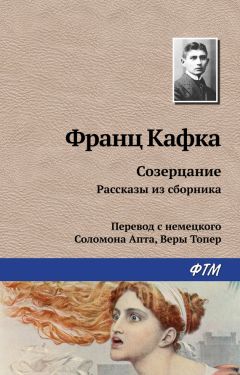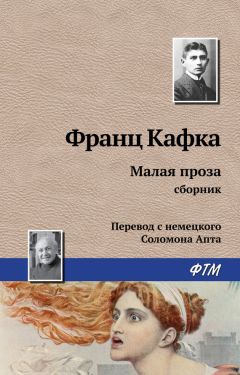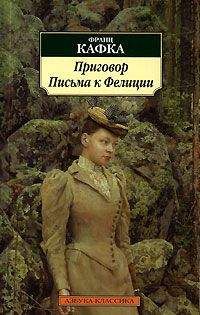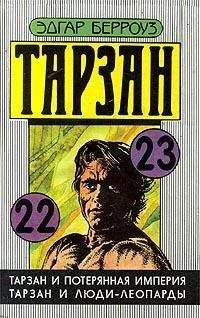Моасир Скляр - Леопарды Кафки
Храм. Тут он почувствовал более твердую почву под ногами. Любой храм, католический, протестантский, буддистский, иудейский — оплот религии. А религия — по словам Маркса — опиум для народа. Так что атака на храм имела смысл. Но почему на храм в Праге? Прага не такой крупный религиозный центр, как, скажем, Рим или Иерусалим. Возможно, среди церквей города есть какая-нибудь особо важная. Которая? И в чем ее значение? Это следовало выяснить. Как и значение жертвенных чаш, атрибута языческих храмов. Возможно, если речь идет о католическом храме, аналогом этих чаш могут быть чаши, используемые во время службы. Мышонок знал, что эти золотые и серебряные чаши, украшенные драгоценными камнями, стоят огромных денег — денег, необходимых для революционной борьбы. Состояло ли задание в экспроприации (если речь идет о революции, термин «кража» не подходит) этих чаш? Не исключено. Символический жест и вместе с тем материальный выигрыш. Смысл в этом был.
Оставалось еще слово «обряд». Не было ли целью операции помешать какому-то обряду? Но какому обряду? И где должен был проходить этот обряд? Туманно, слишком туманно. Но можно было исходить из того, что местом проведения обряда должен быть тот самый храм, о котором говорилось в тексте. Это облегчило бы поиски.
Храм, стало быть. Для практических целей — просто церковь. Другой тип храма не подходил для революционных действий. Что делать в Староновой синагоге, к примеру? Похитить старика-смотрителя? Захватить предполагаемую могилу Голема? Глупости. Если цель операции — храм, то это должна быть церковь. Но какая церковь? Надо было провести расследование в этой области, может быть, спросить в туристических конторах или попросить о помощи верующих: диалектика подсказывает, что они сами выроют себе могилу, где их и похоронят.
Он почувствовал, что проголодался: шел второй час дня, а у него с утра маковой росинки во рту не было. Он решил спуститься вниз и перекусить.
На улице обнаружился газетный киоск. Одна из газет, «Право лиду», привлекла его внимание: на первой полосе был рисунок, изображавший рабочую демонстрацию, рабочие шагали, подняв сжатые кулаки. Он спросил киоскера, что это за газета. Тот ответил: орган социалистической партии.
Соцпартия. Это натолкнуло Мышонка на одну мысль. Социал-демократов он терпеть не мог: реформисты, приспособленцы — так презрительно называл их Ёся. Но они, возможно, точно так же терпеть не могли правых. Вдруг у них удастся что-нибудь узнать о храме, где должна проводиться операция.
Он спросил у продавца, где редакция газеты. Оказалось, недалеко. Забыв о голоде, Мышонок направился прямо туда.
В маленьком помещении редакции было пусто. Только один-единственный журналист ожесточенно колотил по клавишам пишущей машинки. Мышонок подошел к его столу.
— Что вам угодно? — спросил журналист, не отрывая глаз от листа бумаги.
— Дело вот в чем… — начал Мышонок.
— Конкретнее, — потребовал журналист. — Ближе к сути. Тут газета, а не исповедальня и не колонка советов для нервных барышень. Время не казенное. Выкладывайте, что вас привело сюда.
Мышонок сказал, что он иностранец, что тоже сторонник социалистических идей (он воздержался от термина «коммунистических») и, проходя мимо, решил зайти, чтобы познакомиться с сотрудниками газеты и попросить кое-какую информацию.
— Какую информацию? — бесстрастно проговорил журналист.
Мышонок, который все еще стоял, будто на допросе, в замешательстве переступил с ноги на ногу:
— Информацию о Праге…
— Догадываюсь. Какую именно информацию о Праге?
— О некоторых местах в Праге…
— О каких местах в Праге?
— О церквах, например… Вообще о храмах…
— О церквах? Вообще о храмах? Что-то я вас не понимаю. Вы разве не сказали, что вы левых взглядов? Те, кто придерживается левых взглядов, насколько мне известно, ничего общего с церквами и храмами не имеют. Ну ладно. Что конкретно вы ищете?
— Мне говорили, — голос Мышонка от волнения стал совсем тонким, — что здесь, в Праге, есть очень богатая, роскошная церковь… Что чаши… Те, что священники используют во время мессы, вы знаете… Очень ценные чаши… Кажется, золотые…
Журналист теперь смотрел на него с явным недоверием. И Мышонок легко мог представить себе, почему. Незнакомец является в редакцию левой газеты и начинает задавать странные вопросы. Журналист имел полное право заподозрить что угодно. Он попытался исправить положение: товарищ, вы можете доверять мне, я на вашей стороне, я тоже стремлюсь к великому идеалу, желаю переделать несправедливый мир, в котором мы живем, построить новое общество, я даже могу прямо сейчас оформить подписку на вашу газету, ненадолго, потому что денег у меня немного, но, скажем, на полгода… Журналист, однако, больше разговаривать не хотел.
— Послушайте, мне все равно, левый вы или правый. Если вам нужно что-то узнать о церквах, туда и идите. Я-то при чем?
— Но…
Журналист вскочил и зарычал:
— Хватит! У меня работы невпроворот, а я с тобой время теряю. Проваливай, или я вышвырну тебя отсюда.
Мышонок вышел из редакции буквально раздавленным. Такой шанс на помощь упущен! Причем по собственной неловкости и глупости. И что теперь делать? К кому обратиться? К самому Кафке? К этому загадочному Кафке? Бесполезно. Кафка уже выполнил свою миссию, отправил текст в гостиницу, причем незамедлительно. Чего же еще у него просить? Бедному еврею из Восточной Европы, бедному еврейчику, творящему одну глупость за другой, просить у Кафки нечего. Идиот, стонал Мышонок, идиот, идиот — и больше ничего, бедный Ёся, нашел кому перепоручить задание, только в бреду могла прийти ему в голову такая нелепая идея.
Так он брел куда-то, как вдруг неподалеку от замка, что в Градчанах, набрел на старинную церковь. Вспыхнула надежда: вдруг это храм, о котором говорилось в шифровке? Зашел.
Ни разу до этого Мышонок не бывал в церкви. Впечатление она произвела на него сильнейшее. Будто из реального мира он разом перенесся в иной, странный, чуждый, подавляющий. Величественная архитектура, алтари, горящие свечи, статуи святых — все пугало его, все внушало трепет. Нет, это не то что маленькая скромная синагога в Черновицком, тем более что она и храмом-то не была, а просто ветхим и старым деревянным домишкой, где евреи собирались, чтобы помолиться, поплясать, поругаться — словом, что-то сугубо неофициальное. К тому же там всегда было шумно. А эта церковь, конечно, и была тем самым храмом. Здесь повсюду ощущалось присутствие невидимого и могущественного существа. Мистицизм пронизывал воздух, которым, казалось, становилось трудно дышать. Не то это было место, где можно действовать в одиночку. Будь рядом Ёся… Или если уж Ёси нет, так хоть «Коммунистический манифест» — и то защита… Но Мышонок был один, беспомощный, растерянный. Пришлось бороться с непреодолимым желанием выбежать на улицу, оказаться, пусть и в незнакомом городе, но среди людей, а не среди незримых и могущественных духовных сущностей.
Однако он не позволил архаичным инстинктам взять над собой верх. Евреи боятся церквей, но он здесь не в качестве еврея, он здесь — политический активист. С большим трудом взяв себя в руки, он с высоко поднятой головой двинулся вперед, к главному алтарю. Ему надо увидеть чаши, надо оценить их — не взглядом революционера, а взглядом ювелира: бывают моменты, когда, в соответствии с законами диалектики, надо совместить революционный взгляд на вещи с коммерческим — и решить, могут ли эти чаши быть целью его революционной миссии.
Он остановился перед алтарем. Самое неприятное, самое печальное, что там на огромном кресте висел Христос, Христос, которого предки Мышонка помогли когда-то к этому кресту пригвоздить. Это был явно не акт революционного насилия: Христос не толстый буржуй, расплачивающийся за то, что всю жизнь эксплуатировал трудовой народ. Нет, Мышонок видел перед собой фигуру тощую, изможденную, израненную, истекающую кровью. Абсурдная, бессмысленная жертва, жертва, которая не взывает к небесам, даже не жертва, а жалоба, обвинение, направленное против Беньямина Кантаровича. И что ж ему теперь делать? Пасть ниц и просить прощения, молить о прощении?
Нет, он не падет ниц. «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов…» Он не считал, что «мир голодных» — это про него, хотя в желудке даже и сейчас было пусто, но он из тех, из «проклятьем заклейменных», или, по крайней мере, солидарен с заклейменными проклятьем жертвами несправедливого мироустройства, и одна из этих жертв — замученный Иисус. Так что он, Мышонок, может смотреть ему в лицо без страха. Христос даже может считать его союзником: я на твоей стороне, Мышонок, я революционер, как и ты, я умер за революцию, только вот меня не поняли, понастроили в мою честь гигантских храмов, но мое место не в храмах, мое место на улицах, в полях, на фабриках и заводах; мое место — с массами, я хочу раствориться в массе, хочу быть всего лишь одним из многих, как ты, товарищ Мышонок.