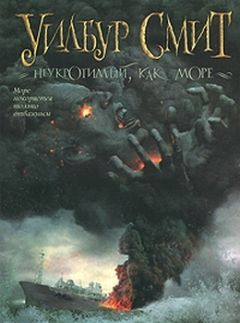Арман Лану - Когда море отступает
Что ей вздумалось — нет, что ей вздумалось ехать во Францию с этим молодчиком! Мало ли было у нее возможностей! Например, «Дети Марии» одновременно предприняли путешествие и уж, конечно, не пропустили ни одного готического собора в Руане, Амьене, Шартре, Париже… Да… Впрочем, надо сознаться, это не очень забавно. Ей нужен Абель. Это унизительно. Но он ей необходим. Ей надо через это пройти. Когда необходимость в нем отпадет, она превратит его в оленя и натравит на него собак.
III
Объявление было составлено из следующих слов, написанных по трафарету:
MAINTENANCE COMMANDER OFFICES[4]
6 № 1900
Английский сектор! В таком случае это же и канадский сектор? Он разобрал подпись некоего Портера, регистрационные номера, номера войсковых соединений под синим крестом. Да, вне всякого сомнения, он у англичан! Он догнал Валерию… Нет, плохо дело!
— Ну так как же ваш роман? — спросил он с наигранным спокойствием.
— Самый настоящий роман, Абель. Его фамилия — Лафлер, моя — Шандуазель. Лафлеры и Шандуазели встречаются всюду. Лафлеры и Шандуазели все никак не могут помириться.
Она расцветала на глазах, предаваясь воспоминаниям с чуть заметным сентиментальным налетом. Сейчас она жила полной жизнью.
— В нашей семье говорили: «Фальшив, как Лафлер». Я была студенткой. Он служил в английском банке. Как бы Лафлеры и Шандуазели ни ненавидели друг друга, Абель, их все же связывает то, что они с юных лет должны зарабатывать на жизнь.
— Правильно. Не амию, как жили наши предки, когда они еще только основывали город, но потомков они теплыми местечками не обеспечили.
Она не улыбнулась. То, что он говорил, не имело для нее никакого значения. Важен был ее собственный неоконченный фильм, ее утерянный роман.
— Я встретила Жака в одном частном учебном заведении, я преподавала там французский язык. Мы почувствовали симпатию друг к другу, еще не будучи знакомы. А когда мы познакомились, было уже поздно. В 1830 году Лафлеры сочувствовали революционерам. Это не прощается до седьмого колена! Жили они недалеко от Арок Жан-Талон. Мы все гуляли по узким холмистым улочкам, под арками. По улице Су-ле-Кап мы прошлись, Абель, раз сто! Мы играли, как дети: будто мы туристы, приехали из-за тридевяти земель и вот смотрим на эту улицу впервые! Мы каждый раз выходили на улицу Су-ле-Кап, как выходят в жизнь.
Абель нежно любил улицу Су-ле-Кап, тянувшуюся от укреплений к докам, вздыбившим свои подъемные краны, любил свежевыкрашенные фасады ее домов, их толстые стены, их галереи, деревянные и чугунные ограды, ее собак, ее строения с выступами, как в Руане, ее горластых жителей, даже белье, развешанное на веревках, протянутых от окна к окну. Эта улица была в его вкусе.
— Это была глухая улица. Уголок старины, охраняемый ради американских туристов, и здесь в самом начале сорок третьего года Жак меня поцеловал. Ноги у меня замерзли! Я вернулась домой простуженная, с мыслью о том, как хорошо встретить человека, которого будешь любить всю жизнь.
— Если б не очки, в вашем взгляде можно было бы сейчас уловить что-то человеческое, — добродушно-насмешливо заметил Абель.
— В этом, вероятно, повинна бесстыдная Франция, ваша пособница, Абель. В Квебеке я бы вам никогда этого не рассказала. О, не оправдывайтесь: вы с Францией понимаете друг друга, как воры на ярмарке!
Мол, постепенно суживаясь, доходил до самого плавучего дока, шириной в двадцать шагов, высотой не более чем в тридцать, — на этом доке, доступном для прилива, обрывалась улица, выходившая к морю. Волны злобно бились о камни и брызгались пеной. На синей дощечке было написано:
КОММУНА ТРАСИ-СЮР-МЕР
ДОК ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ЭЙЗЕНХАУЭРА
Они облокотились на парапет; ветер трепал ее волосы.
— Когда мы узнали, кто мы такие, нелепая вражда двух семей нас только еще раззадорила. Ромео и Джульетта for ever[5]. Ни одна из моих подруг не могла похвалиться, что ее возлюбленного ненавидят ее родные! Я отошла от религии. Его родные были красные. Я отреклась от Канады. Я заявила, что мне здесь душно. Что условности давят меня.
Он чуть не прыснул. Валерия — враг ханжества! Можно помереть со смеху.
— Мы с Жаком считали себя передовыми. Он восхищался Пикассо. Этого мало: у него был товарищ коммунист! Я полюбила человека, дружившего с коммунистом! Абель! Правда, что во Франции каждый пятый — коммунист?
— Во всяком случае, каждый пятый француз голосует за коммунистов.
— Забавно. Как бы то ни было, мы считали, что мы люди независимых взглядов. Свободная любовь — таково было наше решение, и оно могло только усилить ненависть наших родных… Сколько было разговоров!.. Но… но мы все еще медлили…
По обрывкам речей и признаний Жака — «Жа-ака» — Абель создал себе трогательный образ квебекских влюбленных, застенчивых, пылких, добродетельных, с прилежным упорством первых учеников по закону божьему толкующих о вопросах пола и о революции.
— Жак мне все время говорил о вас, Валерия. Я буду откровенен, хорошо? Можно? Ну так вот, он не всегда был скромен… Он мне сказал, что вы с ним… Словом, у вас не всегда ведь это было платоническим?
Она села на парапет, сняла очки, и, когда Абель заглянул ей в глаза, она показалась ему моложе и не такой строгой, но затем, подышав на стекла и тщательно их протерев, она опять надела очки и сказала:
— В сущности, мое падение произошло из-за папы. Папа во всем подчинялся моей матери. Он говорил: «Когда мы в чем-нибудь согласны, Луиза поступает, как хочу я! Когда же мы не согласны, я поступаю, как хочет она. Мы очень счастливы». Вообще девушка ищет в молодом человеке отражения своего обожаемого и почитаемого отца. Я искала в Жаке отца, только более… более мужественного!
Жак, Жак… «Жа-ак» буквально не сходил у нее с языка.
— Как-то в воскресенье вечером мы остались с Жаком вдвоем, и после этого нам уже нечего было познавать друг в друге.
В Арроманше, придавленном статуей Девы, автобусы сзывали свои стада резкими звуками гудков.
— Желание сделать назло отцу, который был под башмаком у моей матери, — вот что толкнуло меня в объятия Жака.
— Но вам этого отчасти хотелось?
Она в раздражении спрыгнула с парапета.
Набережная упиралась в трухлявую лестницу. Вон там намечалась тропинка, но метрах в ста отсюда она уже терялась, уходя в песок. Берег падал отвесно на нагромождение гигантских обломков скал. Абель и Валерия и впрямь были сейчас на краю света, в царстве хаоса. И топографический вывод был неумолим: канадцы высаживались не здесь.
Главная разведывательная служба упорно молчала.
И все же в воздухе было разлито беспокойство — то беспокойство, которое внезапно пугает незапряженных лошадей и заставляет их мчаться галопом, которое передается всем животным, которое война в течение нескольких дней прививает горожанину. Абель насторожился всем телом, как в те времена, когда жизнь его зависела от быстроты реакции. Тогда была слежка, были угрозы, были опасности. Он ощущал их лопатками, затылком, хребтом. У него везде были чувства. Глаза у него были и сзади. Невзирая на шестнадцать лет мирной городской жизни, протекших с тех пор, его все еще давил груз всяческой наследственности, пробужденной в нем рукопашными схватками. Викинги, высаживавшиеся на песчаном нормандском берегу, а затем отправлявшиеся в Англию, участники Столетней войны, ландскнехты, завоеватели Канады, монахи-воины, пионеры — покорители индейцев, леса, снега, медведи, англичане, затем снова война — война 1917 года с «бошами» — и, наконец, война против фанатиков-гитлеровцев… Инстинкты вояки, которые у него обострились в 44 году в Нормандии и которые в мирное время были ему в сущности не нужны, так потом и не отмерли. Сколько раз бросал он гранаты на глазок и попадал! «На глазок»… Это нечто прямо противоположное глазомеру! «Если индейцы что-нибудь теряли, — рассказывал дядя Жоликер, сидя под одной странной картиной, на которой была изображена шагавшая с мечом в руке рослая разъяренная крестьянка; в семье ее звали Маргаритой, — они, вместо того чтобы искать разумно, поделив местность на определенные участки, садились и жались друг к другу, обхватив руками колени и уронив голову. Затем поднимались рывком и шли прямо туда, где, как им подсказывало чутье, лежала потерянная вещь. В иных случаях этот прием приносил им удачу». В Абеле заявлял о себе — на более высоком уровне, чем у многих «цивилизованных», — разбуженный войной первобытный человек, у которого шестое чувство, чувство ориентировки, было сильно развито. Но во Франции это его шестое чувство молчало.
— Вот чертовщина!