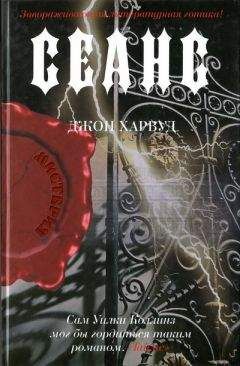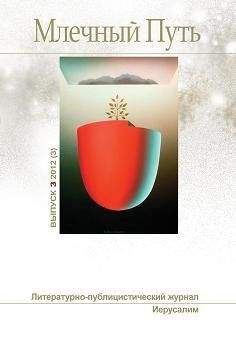Пауль Низон - Canto
Итак, начнем сию же минуту, читатели ждут, а со злободневностью вообще шутки плохи. Незамедлительно необходимо сообщить следующее:
«Расчленили Лаокоона. Виктор Матюр прошелся по Виа-Венето сначала туда, потом обратно. На почтамте Сан-Сильвестро привлекла чрезвычайное внимание группа гостей из дальних краев.
Поводом к реставрации могли послужить находки, сделанные в Сперлонга. Чернокожий человек весьма небольшого роста, с длинными волосами и с бородой, одетый по-европейски, но босиком, стоял вместе со своей женой-блондинкой и что-то выяснял у окошечка. Был прохладный дождливый день. Белокурая жена, в свитере с высоким воротом, держала на руках абсолютно голого коричневого младенца, который жизнерадостно сучил ножками. Что касается Матюра, который сошел с экрана и во плоти, то есть совершенно без всяких намерений, пробежался по улице туда и обратно, то это, скорей всего, был просто пропагандистский трюк. Репортеры не мешкали и подоспели как раз к тому моменту, когда он, сидя в дрожках, на глазах у всех приступил к бритью, полностью парализовав уличное движение.
К отреставрированному Лаокоону, которому удавалось на протяжении веков впечатляюще и без всяких помех гибнуть от змеи, в память об удачной операции, произведенной над ним, приделали сзади совершенно лишнюю руку. Что же касается загадочного происшествия на почтамте Сан-Сильвестро, то, согласно последним сообщениям в печати, речь идет о супругах Хакиме и Куну с Бермудских островов. Они потребовали, чтобы за них вступилась полиция, когда у знаменитого Фонтана-ди-Треви им захотелось бросить в воду не монетки, как это делают все, а свою восьмимесячную дочку Оони. В этом городе возможно все.
Весьма успешно здесь, в этом городе, произошло своеобразное разграничение. С одной стороны, город этот вздымается вам навстречу во всех своих многочисленных воплощениях, смело выброшенных на сей брег потоком истории, противостоя жизни своими каменными письменами и говорящими образами. С другой стороны, сама-то повседневная жизнь в нем начисто лишена историчности. Она пестра, беззаботна, торгашески легкомысленна. Что же это за сожительство такое, спрашиваю я, — с одной стороны, коммерческая импровизация со снобистским извлечением выгоды, а с другой — гулким эхом отзывающаяся вечность монумента? Соответствуют ли они друг другу: мелкотравчатый человеческий дух, где все на продажу — и невероятный театр камней над ним? Замечают ли эти миры друг друга, служит ли один обителью другому? Нет, никогда. Это две жизни, не замечающие одна другую. Вот громоздится необитаемая, не раз менявшая свой облик в ходе истории архитектура, а вот жилая теснота повседневной жизни людей, которым принадлежат здесь лишь их наряды, и больше ничего. Примирить эти противоположности может лишь мостик, перекинутый между ними метафизической живописью, и для Италии в этом — единственный истинный шанс. Так что придется выбирать: либо архитектура, либо люди — если ты хочешь проникнуть в суть этого города. И тут люди в душе своей делятся на любителей камня и любителей людей. Будучи любителем камня, должен сообщить следующее:
Здесь история закладывала камень за камнем, она же откладывала камни на потом. То языческий камень, то христианский, то еще какой-нибудь. Языческий мрамор. Неровными глыбами громоздится он повсюду, и формы этих глыб дают представление о внушительных или же изящных очертаниях прежних зданий как в общих чертах, так и в частностях. Нам видятся пространства храмов, базилик, лавок и форумов. Травой поросли они — и внутри, и снаружи. Рядом струятся кипарисы, и небо, синева которого совсем близко, как на глянцевых открытках, только руку протяни — заливает все пространство до самых подвальных зияющих ям. И непременные спутницы руин — кошки. Стоит лишь раз испытать испуг, когда ты, застыв на месте, оглядываешь бескрайний ряд каменных руин, которые улыбаются тебе своими обломками и зияющими проломами, руин, заботливо обихоженных, сбрызнутых радужными струями воды из поливальных машин, — и вдруг обнаруживаешь громко цокающего рысака, везущего дрожки. Становится страшно, а вдруг от этого каменного стука ноги рысака расколются на бесчисленные каменные осколки. Нет, кошки к руинам, пожалуй, подходят больше.
Здесь камень неизбывен. Четыре сотни храмов по меньшей мере, не говоря уже о стенах, арках, домах. Фасады стыдливые и фасады торжествующие, и фасады жизнерадостно-умиротворенные. Фасады в виде креста и фасады с треугольным фронтоном, они вздымаются над парадной лестницей и возникают вновь позади парадного двора. И стены: вот стена увещевающая, вот стена вся в башенках, с волнистым краем, стена, испускающая трели орнаментов на все лады. И стена хрупкая, осыпающаяся. Вечное пристанище кошек. А камень наполнен теплом, он сияет днем, а ночью дремлет, тая в себе свет. И свет никогда не иссякнет. Вот отчего царит здесь вечный день.
Я не хочу говорить о храмах. Это — страшилища, горбатые чудища. Башня-выскочка. Башни-выскочки. Я хочу говорить о камне.
Истории в камне, откуда ни возьмись, сопровождают тебя повсюду. Слово твердо, как камень. Каменная поступь. Каменное молчание. Вес камня — вечное терпение. Никогда нельзя войти в этот город, можно подойти, приблизиться к камню. К камню, который всем нам опора.
В камне изваян Бабуино на одноименной улице. Венера мужеского пола, толстопузая, курносая и мудрая. Вскормленная народной смекалкой и изваянная в камне. Ни у кого не хватит пальцев, чтобы просунуть во все дырочки, выбитые водой в камне. Ох, все эти дырочки, поры, рубцы! Ощупать, исследовать всю эту землю холмов и впадин, вздутий и неровностей, маслянистой гладкости, засушливых мест, гротов, кораллов, прудов, покатостей, волдырей. Человек-грот лежит на улице, которой он дал имя, эй ты, каменная пористая губка! Под жаркой бурой тенью церкви — точно так же, как где-то в другом месте белый камень вдвое тяжелее служит опорой непокорно вздымающейся фигуре человека и стоит нерушимо под несмолкающие аплодисменты воды. А как он терпелив! И мне вдруг захотелось взять тонкую палочку сигареты и воткнуть ее в пористый камень со всем неистовством: „Сезам, откройся!“, возьми себе эту улицу, этот город, мир, который я не могу постигнуть, пусть он втечет в тебя, возьми его себе, этот камень, растущий и знающий камень, возьми его назад. Сбереги его для меня, о ты, недвижимый».
Когда я, именем царственно-священного Цверингера, собираюсь писать репортаж и, намереваясь собрать материал для репортажа, ношусь по разным бюро, музеям, бегаю на места всяких событий, а потом спешу обратно, под сень нашего клуба, — тогда в Риме обнаруживаются пути-дороги, тонкой незримой ниточкой вьющиеся тропинки на грандиозном плане города, тогда и у меня, похоже, начинает раздуваться лягушачий животик надменности, тогда и для меня всемогущий бэйджик, оповещающий всех о важности миссии штатного сотрудника, откроет любую дверь. Благодаря ему, Цверингеру. Если у тебя в жизни есть своя роль, то нет более надежного средства передвижения. Что бы ни случилось, ты всегда в пути, и, действуя, ты идешь по чужим, протоптанным следам; общее место для собственного «я», ты цитируешь себя самого. Но называется моя роль вовсе не ролью журналиста. Он называет себя иначе, идя таким путем. Он называет себя
Забывальщик
Слово «забывальщик» образовано по аналогии с «пожиральщик». Человек живет только тогда, когда он устремлен к определенной цели, потому что его гарантия — забвение, ведь тогда он избавлен от понимания. Тогда то, что с ним происходит, что его так или иначе побуждает к действию, ни к чему его не обязывает. Он забудет, он с удовольствием предаст все забвению. Сразу, как только что-то совершит. Забывальщик — это лучшее «я» каждого человека. Ах, как беззаботно, помахивая тросточкой, вышагивает он по миру, который ничем его не отяготит.
Он может заглянуть на Виа-Лудовизи, чтобы в одноименном баре выпить чашечку кофе — интересуясь всякий раз, какая кассирша сидит за стойкой: маленькая пухленькая или же худая, костлявая, повыше ростом, — и поэтому всегда может переменить решение (если за кассой — худая) и отправиться в «Кафе де Пари» на соседней Виа-Венето, где в этот час вас обслужат с достойной особого упоминания предупредительностью, как это бывает днем во всех ночных заведениях. Возникает вполне закономерное ощущение праздности, но оно ничуть не тяготит. Ведь в этом «Кафе де Пари» ты словно внутри какого-то струнного инструмента. Это — резонирующий корпус ночи, из дорогих пород дерева, искусно отполированный, но блеск его не бросается в глаза, ибо по внутреннему пространству, длинному, извилистому, блаженствующему в неспешной неге, плывет полумрак. Работы у официантов и обслуги пока почти никакой нет, и все руки — к твоим услугам. Перед кафе, на улице, среди пустующих столиков и редких прохожих, понуро стоит, осев, как старый гриб, газетный киоск, пестрящий разноцветными и разноязыкими порнографическими открытками и нерешительно выглядывающими с этих же полок журналами, там же — газеты, книги; мальчишка-посыльный как раз притащил целую кипу еще липких от свежей черной краски вечерних газет; голова хозяйки подрагивает в окошечке, кивая из глубины гриба. За углом спят такси; дрожки без пассажира, покачиваясь, проплыли мимо, и два листа, сорванных ими с дерева, вяло закружились, изображая парочку вдрызг пьяных мотыльков. Инкрустациями тени переливается цветочный ларек, сверкая всеми оттенками красного, наискосок от газетного киоска, а перед парадными дверьми знаменитых отелей стоят невыразимо торжественные швейцары, готовые в любой момент засвистеть, призывая такси, спящие за углом, как только кто-нибудь из обитателей гостиницы, один или вдвоем, соблаговолит покинуть ее стены.