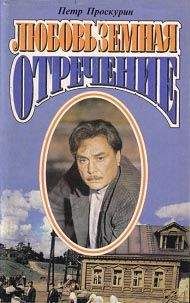Петр Проскурин - Седьмая стража
Зоя Анатольевна, открыв сумочку, достала старинную пудреницу с золотой инкрустацией, подарок брата к замужеству, открыла ее и смятенно глянула в запыленное зеркальце. Чувства, одно противоречивее другого, мешали ей хоть немного сосредоточиться; словам Вязелева невозможно было поверить, но он был ошеломлен не меньше ее самой, и она это хорошо видела. И тогда опять проснулась обида, тайная, больная, застарелая; она тотчас вспомнила трусливое, без единого слова, исчезновение мужа, и оскорбленное женское самолюбие, кое-как притупленное временем, вновь дало себя знать. Сразу же нарисовались самые невероятные картины; и тут как бы сами собой возникли в памяти давно забытые детали, моменты, случаи… и вот из-за этого человека жизнь прошла впустую.
Лицо Зои Анатольевны сделалось старым и некрасивым, подбородок дрожал, глаза же сухо горели. Вязелев подумал, что ей сейчас станет совсем худо, и уже хотел бежать за каким-нибудь лекарством, — Зоя Анатольевна остановила его. Она сама испугалась своей ненависти и беспощадности, тем более, что была не одна. Значит, Меньшенин слишком мало ее любил, и здесь ничего не поделаешь, такова, очевидно, природа мужчины, что здесь значит даже собственный маленький сын?
Приказав себе остановиться, не переходить за унижающую человека черту, она опять глянула на себя в зеркальце, тщательно сдувая с клочка ваты лишнюю пудру, она привела лицо в порядок. Все сомнения для нее уже были разрешены; она слишком долго мучилась в свое время из-за Меньшенина, чтобы еще раз; уже сейчас, почти через двадцать лет, начинать сначала. Теперь был только один путь, она и не подозревала о нем вот до этой ночи. И тут словно что опало, прорвалась мешавшая дышать полной грудью неведомая преграда. Бросив пудреницу в сумку, Зоя Анатольевна, удивляя хозяина, тихо засмеялась каким-то особым, волнующим его смехом.
— Обо мне ничего не спрашивал?
— Он ни о ком ничего не спросил, — сказал Вязелев. — Вот это больше всего меня и ошеломило.
— А ты сам что думаешь? — поинтересовалась Зоя Анатольевна, и Вязелев, крепко потирая лысину, вновь развел руками.
— Ничего не могу объяснить, — признался он, начиная сердиться. — Чуть мозги не вывихнул… Знаешь, мне все больше кажется…
— Да?
— Что, если вообще ничего и не было? — спросил Вязелев, неуверенно улыбаясь. — Бывает же… как-нибудь померещилось, приснилось, — я кофе бочками глушу. Прошло ведь почти двадцать лет! Так же не бывает, правда?
— Очевидно, бывает, Жора, — сказала Зоя Анатольевна. — И ты не знаешь, что в этом пакете?
— Понимаешь, Зоя, есть еще одно обстоятельство, — начал Вязелев с некоторой ноткой вины в голосе. — Первые годы, лет пять, шесть, Алексей присылал мне из разных мест всякие свои бумаги с просьбой хранить и никому не показывать… А потом перестал…
— А может быть, хватит о Меньшенине и его сумасбродствах? — Зою Анатольевну постепенно стало охватывать раздражение. — Вновь какой-нибудь гениальный бред… Даже не знаю, отдавать ли Роману? Не лучше ли в огонь? — вслух думала она, окончательно разгораясь. — Знаешь, Жора, я тебе тараканов выведу, я средство знаю. Буру смешать с сахарной пудрой, посыпать по углам, за шкафами — в несколько дней до единого сгинут… Ну, что ты так смотришь? Вот старая черепаха…
— Загадочное существо — женщина, — тепло и покорно улыбнулся Вязелев. — Не забыла ведь… И страдаешь по-прежнему, и любишь…
— Ах, нет, это не то, успокойся, — возразила Зоя Анатольевна. — Я ведь совершенно серьезно говорю. Что ты, Жора, какая любовь? Все выгорело, хватит с меня Меньшенина! Хватит! — резко провела она ребром ладони себе по горлу. — Сыта! Я теперь лучше с живыми тараканами хочу сразиться… И дело сразу видно — чисто, уютно. А гении — бр-р-р! К черту сумасшедших гениев, они не для слабой женщины. К черту, к черту!
— Что ты такое сейчас говоришь! — поморщился Вязелев. — Ты ведь не в себе сейчас, ты ведь другая…
— А ты меня поучи, поучи! — повысила голос Зоя Анатольевна. — Другая? Откуда тебе знать, какая я? Да, я его любила, я чуть с ума не сошла, ждала, ждала, ждала… И ты еще хочешь видеть меня доброй?
— Ну, ради Бога, не кипятись, — вновь с тихой улыбкой попытался остановить ее Вязелев. — Говорю же — вполне вероятно, пригрезилось, в последнее время одолевает прошлое. Всякое случается.
Тут Зою Анатольевну, слушавшую хозяина с жутковатым и в то же время бодрящим ознобом в груди, что-то заставило поднять голову и прислушаться, — Вязелев тоже замолчал, вопросительно глядя на нее и тоже вслушиваясь в московскую ночь, в ее глухое звучание в толстых, старых стенах дома.
— Ничего, — подала наконец голос Зоя Анатольевна, слегка поеживаясь. — Когда-нибудь мы вспомним эту минуту и посмеемся… Слушай, Жора, не нагоняй на меня всяких страхов, я и без того трусиха. Я же вижу, тебя что-то мучит, а ты молчишь, не хочешь сказать…
— Говорить особо и нечего, — вновь попытался уйти в сторону Вязелев, стараясь не подпадать больше под ее власть. — Ты опять не поверишь, только это уж совершенно фантастическое… Не в монастыре ли он обретается, наш Алексей? Или еще хуже, не в доме ли скорбных главою?
Слегка отодвинувшись, Зоя Анатольевна быстро перекрестилась.
— Придумаешь! Вот уж не ожидала… Мог бы и спросить, что-нибудь да услышал бы…
— Как же, спроси! — не согласился Вязелев. — Да он мне слова не дал сказать, видела бы ты его глаза! Монах не монах, Бог знает что… Он совсем другим стал, бросил несколько слов — да и был таков! Это он на меня наслал какое-то помрачение, до сих пор прийти в себя не могу. Да что мы все о нем да о нем? — окончательно возмутился Вязелев. — Бодришься, а на тебе лица нет, у меня тоже мысли не дай Бог. Подожди, у меня вина немного есть, берег, берег... Денег давно не водится — по примеру пращуров, извел на книги да рукописи, все мои капиталы на полках… Выпьем, какого еще случая ждать? Не часто нас навещают почти что из-за последней черты…
Тотчас достав откуда-то из угла, из наваленного там хлама плоскую и длинную, похожую на флягу, запыленную бутылку, Вязелев взглянул на нее на свет и огорчился, и Зоя Анатольевна, продолжавшая внимательно наблюдать за ним, хотела ободрить и успокоить его, и не успела. Вязелев хлопнул себе по лысине ладонью и, бросив пустую бутылку обратно в угол, выбежал, тотчас вернулся, и скоро они уже держали в руках наполненные вином рюмки, и Вязелев, глядя на свою гостью, подумал, что им давно бы пора сойтись и жить вместе, а не маяться дурью, но вот сказать об этом он вряд ли осмелится. Одиночество — самая разрушительная вещь на этом свете, вон как и ее, и его самого подкосило, ну, и что? Оба не молоды, нездоровы, ну и что? Вот так, тихо и просто быть рядом, о чем-нибудь поговорить, улыбнуться, а то и поворчать, вместе сходить в театр, куда-нибудь на выставку…
Он не заметил, что гостья, заученно улыбаясь, уже с трудом пересиливает усталость; сейчас ей больше всего хотелось немного выпить, добраться до постели и лечь и закрыть глаза, и в то же время подхватившая и понесшая ее мутная, теплая волна еще не утихла и не опала, и несла она ее не вперед, а назад, назад; она вдруг почувствовала, что сердце бьется как-то неровно, а вот и знакомая, тупая боль… а вот и его глаза несутся откуда-то из мрака… Боже мой, что он хочет ей сказать… какой странный, все обволакивающий взгляд, смотрит прямо в душу, в самую ее глубину, и от этого как-то невыносимо, пронзительно светло…
Сильно бледнея, Зоя Анатольевна качнулась, рюмка с веселым звоном рассыпалась по полу, и Вязелев, очнувшись от своих мыслей, быстро приподнялся, вложил ей в руку свою рюмку.
— Ничего, ничего, — торопливо, полушепотом заговорил он. — Выпей, выпей! Я, дурак, тебя напугал, а это всего лишь прошлое… Такое слепое, безглазое… пей! Вот и себе в стакан налью…
Они посмотрели друг на друга; Вязелев не выдержал, глянул в сторону, затем залпом выпил, и Зоя Анатольевна, пересиливая слабость, последовала его примеру.
— Хорошо, — прошептала она. — Теперь, Жора, я знаю, ты не обманул. Нет, нет, ты не виноват, так уж сложилось. Мне бы прилечь немного, голова кружится…
Вязелев провел ее в другую комнату, в ту самую, сплошь заставленную книгами, папками, какими то свитками, и бережно уложил на диване, а сверху осторожно набросил на нее старенький клетчатый плед. Закрыв глаза, Зоя Анатольевна подложила под щеку ладонь.
— Не уходи, Жора, — попросила она. — Не в себе… и не то, чтобы страх, хуже… Пожалуйста, не уходи. Расскажи мне что-нибудь еще…
Опустившись рядом на стопку каких-то книг, Вязелев осторожно взял ее руку в свои. Тотчас мир, разъятый и безликий, сомкнулся, и стало тихо. И полки с книгами успокоительно придвинулись, Вязелев почувствовал их неуловимое, согревающее тепло. Зоя Анатольевна чуть шевельнула губами:
— Говори…
— О нем? — обреченно переспросил Вязелев и тотчас успокаивающе погладил ее руку. — Конечно, конечно, что это я… Я ведь тоже все время о нем думаю… Не знаю, не знаю, мне порой кажется, что я просто брежу. Мы словно попали в орбиту какого-то непреодолимого притяжения и не можем вырваться. Но почему именно я или ты? Есть люди, одаренные какой-то высшей силой, высшим смыслом, — они идут своим путем, одинокие и гордые, у них неведомые никому пути и задачи. И нам их не понять, мы боимся оторвать глаза от земли… Мне часто и раньше казалось многое в семье Меньшениных странным, почти необъяснимым, ведь и его отец почти не жил дома… все пропадал по каким-то дальним командировкам, а я думаю, что где-то и подальше... И Алексей, конечно, не то, чем бы он хотел казаться, за ним всегда чувствовалась эта фамильная, что ли, спесь, какая-то непереносимая почти даль, — туда он никого не пускал… Кто он и куда он идет или шел? Наверно, ему больно от одиночества и непонимания, но что он может сделать, мне порой казалось и раньше, что ему просто нельзя свернуть или остановиться…