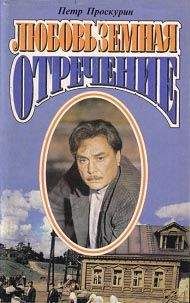Петр Проскурин - Седьмая стража
Опустившись рядом на стопку каких-то книг, Вязелев осторожно взял ее руку в свои. Тотчас мир, разъятый и безликий, сомкнулся, и стало тихо. И полки с книгами успокоительно придвинулись, Вязелев почувствовал их неуловимое, согревающее тепло. Зоя Анатольевна чуть шевельнула губами:
— Говори…
— О нем? — обреченно переспросил Вязелев и тотчас успокаивающе погладил ее руку. — Конечно, конечно, что это я… Я ведь тоже все время о нем думаю… Не знаю, не знаю, мне порой кажется, что я просто брежу. Мы словно попали в орбиту какого-то непреодолимого притяжения и не можем вырваться. Но почему именно я или ты? Есть люди, одаренные какой-то высшей силой, высшим смыслом, — они идут своим путем, одинокие и гордые, у них неведомые никому пути и задачи. И нам их не понять, мы боимся оторвать глаза от земли… Мне часто и раньше казалось многое в семье Меньшениных странным, почти необъяснимым, ведь и его отец почти не жил дома… все пропадал по каким-то дальним командировкам, а я думаю, что где-то и подальше... И Алексей, конечно, не то, чем бы он хотел казаться, за ним всегда чувствовалась эта фамильная, что ли, спесь, какая-то непереносимая почти даль, — туда он никого не пускал… Кто он и куда он идет или шел? Наверно, ему больно от одиночества и непонимания, но что он может сделать, мне порой казалось и раньше, что ему просто нельзя свернуть или остановиться…
Осторожно покосившись в сторону Зои Анатольевны, по-прежнему лежавшей с закрытыми глазами, он подумал, что составилось какое-то совершенно невероятное положение, и это тонкое напряженное женское лицо на старенькой подушке тоже невероятно в этом его правильном, давно очерченном мире, теперь совершенно неожиданно и беспардонно взорванном. Разумеется, он не идиот, приходил к нему живой Алешка Меньшенин, и никто больше, и нечего себя обманывать, пожалуй, именно он, Алешка, и внушил ему мысль позвать к себе Зою и позаботиться о ней, он бы ничего не мог сказать здесь определенного, но он точно знает, что это было его настойчивое желание, даже требование — ведь они с Алешкой Меньшениным еще старые школьные друзья, не говоря уже о другом… Теперь он все окончательно вспомнил…
Он не понял, что случилось, он почувствовал почти опустошающее облегчение; Зоя Анатольевна, лежа навзничь, с закрытыми глазами, плакала, слезы ползли по вискам, редкие и бессильные. Он, просветленный и легкий, потянулся к ней, хотел поцеловать ей руку и не успел.
— А я вот ничего не могу забыть и ненавижу, — сказала она. — Я ведь его никогда не понимала и боялась этого непонимания в себе…
— Не надо, Зоя, не унижай себя… То, что было — было, зачем же? — Подкрепляя свои слова, Вязелев опять слегка погладил ее руку. — Если бы он действительно умер, неужели в твоей душе все было бы иначе? Не верю…
Он замолчал, встретив взгляд какой-то незнакомой, совершенно далекой женщины, уже почти спокойный, с проскакивающими в глубине глаз насмешливыми искорками.
«Мертвому прощается многое, что с него взять? — тихо подумала Зоя Анатольевна. — Живому ничего не прощается… Так устроено, ничего переменить нельзя».
Он, забывшись, все еще продолжал держать ее руку в своих, и оба они смутились; что-то пришло и окончательно связало их друг с другом. Торопясь закрепить неожиданное откровение, Вязелев неловко наклонился и коснулся горячими сухими губами ее слабых, тонких пальцев.
Синий рассвет появился в окне неожиданно. Открыв глаза, Вязелев приподнялся, привалился к прохладной спинке кровати. Пришло успокоение и облегчение, все свершилось как-то буднично и просто, и теперь непонятно, что делать дальше. Скорее всего, ничего не нужно делать, все само собой образуется и продолжится, ведь никого это не касается, только его самого и вот ее, этой маленькой женщины, и Зоя Анатольевна, давно украдкой наблюдавшая за ним, улыбнулась, пожелала доброго утра, и Вязелев, облегченно вздохнув, обрадовался.
— Ах, старые мы дураки, — посокрушался он на всякий случай. — Вот навертели-то петель, никакой леший не распутает…
— А мне, Жора, хорошо и покойно, — призналась Зоя Анатольевна. — Какие мы старые, не говори так… Мне до пятидесяти еще вон сколько, а ты ведь ровесник Алексею…
Спохватившись, она испуганно тряхнула головой, и Вязелев осторожно погладил ее хрупкое плечо.
— А если дверь откроется, и он войдет, а? Ему в голову и такое может втемяшиться…
— Призракам здесь делать нечего, — решительно возразила Зоя Анатольевна. — Прости, мне надо торопиться, в девять у меня деловая встреча… Пожалуй, прихвачу и меньшенинский пакет, как-нибудь дотащу. Ладно уж, ты пока перевяжи его еще раз шпагатом.
Оба невольно одновременно посмотрели на стол, где Зоя Анатольевна оставила вчера большой серый сверток с меньшенинскими бумагами, и переглянулись: кроме двух бокалов с недопитым вином на столе больше ничего не было.
Осенний, еще теплый вечер пах свежими спелыми яблоками, сухой пылью — в старом московском дворе, наряду с вездесущими тополями и липами, еще держалось несколько яблонь, полузасохших, в обломанных сучьях, с обшарпанными стволами и безжалостно разодранной корой; земля под ними, плотно и навсегда утрамбованная, не размокала и в самые сильные дожди, — потоки воды скатывались с нее, как с бетонного покрытия. И все-таки на вершинах изуродованных человеческой неутомимостью деревьев еще сохранялось одно-два яблока, запрятанных в листьях и не видных снизу вездесущим ребятишкам, с молоком матери впитавшим в себя уверенность, что все в мире создано только для них и яблоня растет единственно для того только, чтобы приносить именно им, детям человеческим, вкусные плоды…
Еще пахло неуловимой гарью — она присутствовала везде, в каждом глотке воздуха, в любом дуновении ветра, в квартире и на улице, и даже за сорок километров на даче Одинцова, среди старых сосен с начинающими подсыхать верхушками.
Роман глядел в окно и думал, что когда-то деревья эти казались ему фантастично высокими, а замкнутый с четырех сторон колодец двора бесконечно огромным.
— Значит, где-то хранятся бумаги отца, — сказал он, оглядываясь на Зою Анатольевну, теперь более чем когда-либо избегая называть ее мамой. — Может быть, ты подскажешь?
— Не могу, Рома, не знаю. — Голос Зои Анатольевны был бесстрастен и ровен, словно из него ушли все краски, и сразу же Роман пожалел ее, сказал себе, что нужно всегда помнить, что это его мать и вот уже сколько лет она живет неизвестно как, отгородилась раз и навсегда от всего мира, и, очевидно, не от хорошей жизни. Бесстрастность и отчужденность не в ее натуре, и руки совсем прозрачные от худобы, и ему захотелось как-то ободрить ее, такую одинокую, сказать что-то ласковое, утешительное, но нужных слов никак не находилось, и он стал опять смотреть в окно.
— Как быстро, Степановна, все пролетело, — вздохнула Зоя Анатольевна. — Роман совсем взрослый. А помнишь…
— Еще бы не помнить! — Наконец получив возможность втиснуться в разговор, Степановна обстоятельно обмахнула на себе какие-то оборочки, рюшечки, с силой огладила на коленях юбку. — Да вот и наш хозяин все помнит, — кивнула она в сторону Одинцова, продолжавшего сидеть молча, с застывшей на лице полуиронической улыбкой. — Я только-только в Москву из своего Смоленска приехала, в дом к вам бедной родственницей постучалась. Меня щепой в мутной воде и прибило… Боже мой… Приехала я поначалу к своему земляку, он на Белорусском вокзале после войны пристроился. А у меня душа в клочья изорвана… известно, как после войны на смоленской-то землице — болота, супесь, сроду хлеба вволю не ели…
Кружок от чайника на клеенке привлек внимание Степановны, — она попробовала оттереть его бумажной салфеткой, не смогла и опять взглянула в сторону Одинцова.
— Я ж тогда, дура, вскоре тоже замуж выскочила, — опять заговорила Степановна. — Ох! Ох! Выскочила, да и не знала, как развязаться. Уж такой злодей попался, всякие, прости Господи, бывают, ну уж этот! На веки вечные отвратил от меня искушение мужского покровительства… Тьфу! тьфу! Это же надо, такая оказия! Как ночь — он готов, растелешивается, как есть без стыда, руки воздевает и такая утробная у него голосина. Я, гнусавит, есть посланец, лобызай, ноги мой лобызай, гвоздями пронзенные. Да какой же ты, говорю, посланец, идиот задубенный, лечиться тебе надо, а не играться-то в этакой срамоте… тьфу! тьфу! — Степановна окончательно разволновалась, выбежала на кухню и, отдышавшись, скоро опять вернулась.
— Ну, вот, а твой-то сизый голубь вскоре после этого у нас явился, впервые его сам хозяин и привел, с какими-то бумагами да книжками — целая связка, не подымешь. Я встретить вышла, вот хозяин и говорит: здравствуй, здравствуй, Полюшка, вот знакомься, будем его угощать по высшему разряду. Не ударим лицом, это знаешь кто? Будущая известность, гений! Засмеялся да и уволок парня в кабинет к себе. Надо же им было столкнуться в жизни рядом… Проскочи они мимо друг друга, и кто знает, как бы все сложилось? Как же я могу забыть? Помню, все помню, да и ты, Зоюшка, всего на несколько лет моложе меня была, хоть теткой ты до сих пор меня зовешь. Да, впрочем, что говорить, была я все-таки не одна в этом жутком, развратном городе. Так и пошло. Матушка у тебя, моя какая-то очень дальняя родственница, Вера Васильевна, была прямо ангельская женщина. Я плачу, рассказываю, она — вдвое… Что ж, говорит, Полюшка, живи. Как, мол, я тебе тогда говорила, не нравится мне этот твой избранник… Самсоний-то воспаряющий… Надо же, с крыши восьмиэтажного дома голый к небу устремился… Какая фантазия, видимо, озаренным человеком явился на свет, да сгубил себя водкой. Как же, талантливый алкоголик, это несомненно, сатана его избранником своим обозначил, — внезапно вышла из себя Степановна, махнула рукой, всхлипнула, и глаза ее затуманились тоскливой насмешкой над своей жизнью и над тем, что она сейчас словно пыталась пожаловаться хоть кому-нибудь; она поспешно вскочила и вновь устремилась на кухню.