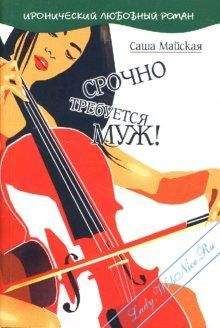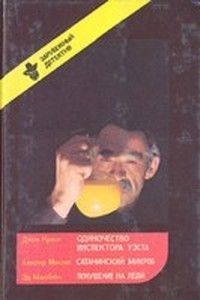Юрий Герман - Жмакин
Жмакин постучал.
Ему открыла старуха, та, что сидела у самовара, и сказала, что комната, действительно, есть, в мезонине. Жмакин попросил показать. В переднюю вышел сам Корчмаренко, наспех расчесывая бороду, и спросил, откуда Жмакин.
— Как откуда?
— Ну, откуда, одним словом. Где работаете?
В передней очутилась вся семья, и все глядели на Жмакина.
— Работаю особоуполномоченным по пересылке грузов, — вяло лгал Жмакин, не зная, что говорить дальше, — работаю на узлах…
— На каких узлах? — спросил парень, тот, что читал книжку.
— Да уж на железнодорожных, — сказал Жмакин, — на каких больше?
— Значит, ездите? — спросил Корчмаренко.
— Не без этого.
— Теперь все ездиют, — сказала старуха, и Жмакину показалось, что она намекает.
— Как — все? — спросил он щурясь.
Но старуха не ответила, спросила, женат ли он и есть ли у него дети.
— Ни того, ни другого, — сказал Жмакин усмехаясь. Ему сделалось смешно от мысли, что он может быть женат и дети…
— И хорошо, — говорила старуха, — комнатка маленькая, лестница крутая, с детьми никак нельзя. Мы уж так и уговорились, ежели с детьми — то нельзя. Ну, а как женитесь? — спросила она. — Да как пойдут детишки?
— Могу дать подписку.
Корчмаренко захохотал, ему показалось это очень смешным.
— Так можно посмотреть комнату? — спросил Жмакин. Ему уже надоел весь этот разговор.
Его повели всей семьей наверх по темной, скрипучей, очень крутой лесенке. Комнатка оказалась прехорошенькой, теплой, сухой, чистой, оклеенной голубыми в цветочках обоями.
— Койка останется? — спросил Жмакин.
— И койка, и стол, и стул, и шкафчик, — сказала старуха, — и занавеску тебе оставим, — она внезапно перешла на «ты», — и белье постираем. Чего уж, раз холостой.
— А сколько положите? — спросил Жмакин.
— Да рубликов семьдесят надо, — сказала старуха, — с обмеблированием.
— Да чего, — сказал Корчмаренко, — семьдесят рубликов… Вы, мамаша, Кащей. Дорого!
— А сколько? — спросила старуха.
— Он парень ничего, — сказал Корчмаренко, — свой. Мы, с другой стороны, люди зажиточные, Комнату сдаем неизвестно по какой причине, — всегда здесь жилец, а теперь возьми ноги в руки да и смотайся во флот. Федю Гофмана не знали?
— Не знал.
— Он теперь трудовому народу служит, — сказал Корчмаренко, — комната пустая. А уж он вернется, мы тебя, извини, попросим. Федя уж, он у нас свой. Уж ты не обижайся.
— Я не обижусь.
— А мы с тебя возьмем, сколько с Феди брали. Мамаша, сколько мы с Феди брали?
— Уж с Феди возьмешь, — сказала старуха, — от него дождешься.
— Так как же?
— Он человек молодой, — улыбаясь, говорила старуха, — он мне так и наказал: бабушка, ты у меня денег не спрашивай, мне и на свои расходы не хватает, а у тебя дом собственный, с налогом сама управишься.
— Ну и Федька, какой ловкий! — крикнул Корчмаренко. — Ах, собачья лапа!
И топнул ногой.
Договорились по сорок рублей, но со своим керосином. Про керосин придумала старуха. За стирку тоже отдельно и за уборку в комнате — пять рублей в месяц. Жмакин заплатил семьдесят рублей вперед задатку и уехал в город, якобы за вещами, Ночевал он опять в поезде и весь следующий день «работал». В одном «Пассаже» ему удалось срезать четыре сумочки. Три из них он выбросил, в самую лучшую сложил деньги и документы, завернул ее в бумагу и отдал на хранение. Он совершенно потерял страх, — ему до одури хотелось наконец поспать в постели, он рисковал, как никогда еще в своей жизни, и ему везло до того, что от одного только везения могло стать страшно.
Когда вечером, уже незадолго до закрытия, он пришел опять в «Пассаж», то за стеклом внутри шляпного отдела увидел стоящего к нему спиною Окошкина. Видимо, весть о его сумасшедшей деятельности уже достигла розыска, Лапшин понял, чья здесь рука, и выслал Окошкина — своего ученика. Но Окошкин не видел Жмакина — стоял к нему спиною, и Жмакин не мог отказать себе в удовольствии срезать еще одну сумочку у женщины с зеленым перышком на шляпе. Это было совсем близко от Окошкина — выше этажом — в обувном отделе, и Окошкин мог войти сюда, улыбаясь своими белыми зубами, и взять Жмакина. Но он по-прежнему стоял и смотрел, как женщины примеряют шляпы, и не видел Жмакина, лениво шагающего за его спиною по мокрому кафельному полу. «Окошкин! — хотелось крикнуть Жмакину, — гражданин начальник!» Или постучать пальцем в зеркальное стекло. Но он прошел незамеченным, взял из камеры хранения пакет и вышел на улицу. На лестнице в Стоматологическом институте он подсчитал дневную выручку. Две тысячи рублей без нескольких копеек. Он подмигнул самому себе.
В Гостином он купил чемодан попроще, белья, бритвенный прибор, готовые брюки, английских булавок и два галстука. Захватил бутылку водки, сахару, масла, колбасы, консервы и варенье, сел в поезд и поехал в Лахту.
«Ничего, проживем, — думал он, покуривая в тамбуре и поплевывая, — посмотрим, кто кого. Как-нибудь, как-нибудь…»
Болота, покрытые снегом, едва освещенные бледною луною, холодные и неуютные, кружились перед ним. Его передернуло, он вспомнил те давние странствия. «Как-нибудь, как-нибудь, — бормотал он, стараясь попасть в лад с поездом, — как-нибудь, как-нибудь!»
8
Ему отворила старуха, веселая как накануне, с засученными рукавами, простоволосая. Из кухни несло запахом постного масла, там что-то жарилось, шипело и трещало. По всему домику ходили красные отсветы. Везде топились печи, блестели свежевымытые полы, — казалось, что наступают праздники.
— Да никакие не праздники, — сказала старуха Жмакину, — сам приказал оладьев печь, — други к нему придут, Дормидонов — мастер и Алферыч — Женькин крестный.
— А кто этот Женька?
— Вот уж здравствуйте, — засмеялась старуха, — не знает, кто Женька! Внучок мой, который лампу вчера держал, он и есть Женька. Самому — сын.
Жмакин потащил чемодан наверх по скрипучей лестнице. В комнатке было темно, за окнами — маленькими, заиндевелыми — лежали уже снега — сплошные, насколько хватало глаз. Он постоял в темноте, не снимая пальто, отогреваясь, привыкая к дому, к хозяйственным шумам, к властно-веселым окрикам старухи снизу. Потом заметил, что и у него здесь топится печка, открыл дверцу и сел на корточки — протянул руки к огню. Дрова уже догорали, горячие, оранжевые уголья полыхали волнами почти обжигающего тепла. Сделалось жарко. Не вставая, он сбросил пальто, кепку, устроился поудобнее и все слушал, разбивая кочергой головни и покуривая папиросу. Было слышно, как кто-то, вероятно не старуха — слишком легки были шаги, — а та молодая с ребенком выходила в сенцы, как она набирала там из обмерзшей бочки ковшиком воду и возвращалась и как она однажды разлила, — вода шлепнулась, и старуха сказала басом:
— Лей, не жалей.
А молодая тихо и ясно засмеялась.
Потом пришел Женька и разыграл целую сцену: будто бы он наступил впотьмах на кошку, и кошка будто бы рявкнула исступленным, околевающим голосом, и как он, Женька, сам испугался и заорал, и как пнул кошку, и кошка еще раз рявкнула.
На весь этот страшный шум выскочила старуха, потом наступило молчание, старуха плюнула, сказала: «Тьфу, чертяка!» и хлопнула двумя дверьми, и наступила тишина. Потом Женька начал один смеяться. Жмакин уже понял, что Женька был в представлении и за кошку и за самого себя, и ему тоже стало смешно. Он засмеялся и икнул, А внизу в темной передней Женька крутился, охал и обливался слезами от смеха. Опять заскрипели двери, в переднюю вышла старуха, и Женька рявкнул, будто бы старуха наступила на кошку. Старуха вскрикнула и шлепнула Женьку чем-то мокрым, очень звонко и наверное больно, потому что Женька завизжал. Жмакин икнул уже громко, на всю комнату. Икая, он спустился вниз — попить; икая, заглянул на кухню — попросил лампу и с лампой пошел опять к себе. Пока он раскладывал вещи, Женька внизу возился у приемника, в доме возникала то далекая музыка, то какие-то фразы на нерусском языке, то вдруг знакомый мотив.
Печка истопилась, Жмакин закрыл вьюшку, причесался перед зеркальцем, открыл водку и выпил из розовой чашечки, стоявшей на подоконнике. Мерная, торжественная музыка разливалась по дому. Жмакин почитал обрывок газеты, в которую были завернуты консервы, еще погляделся в зеркало, «Ну что, — подумал он, точно споря, — живу ведь? И ничего!»
Он прошелся по комнате из угла в угол, сунув руки в карманы новых брюк и посасывая папиросу. Особое удовольствие ему доставляло смотреть на постель, на которой он будет нынче спать. «Чудная постель, — думал он. — Завтра никуда не пойду. Отосплюсь. А потом пойду в кино. И ничего не буду делать. И спать буду, спать. Эх, хороша кровать!»
Но его что-то беспокоило, он долго не мог вспомнить что, и наконец вспомнил — паспорт, вот что. Надо было сделать ксиву — вытравить из какого-нибудь украденного паспорта настоящую фамилию, переправить что-нибудь в номере и в серии, вписать якобы свою фамилию. Он сел за столик, разложил все три украденные сегодня паспорта и стал раздумывать — как бы вышло попроще. Но он никогда еще не подделывал документы и хоть кое-что об этом слышал — ничего толком не знал. Пришлось выпить еще немного из розовой чашки. Он посвистывал и разглядывал — имя, отчество, фамилия — все чужое. Мощная, грохочущая музыка лилась по дому. Жмакин взял карандаш и на газете стал подделывать почерк того неизвестного, который заполнял графы паспорта. Ничего не вышло. Он нарисовал чертика, потом сову, потом зайца, почесал карандашом щеку, и два паспорта, предназначенные к отправке владельцам, спрятал в чемодан, а третий, предназначенный к переделке, сунул в карман пиджака. Лестница заскрипела — вошел Женька.