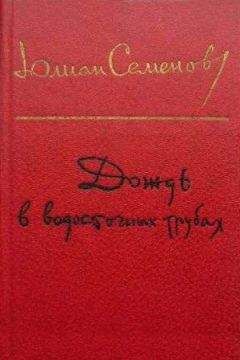Джером Сэлинджер - Собрание сочинений
В общем, дальше я помню, что валяюсь, нафиг, на полу, а он сидит на мне, и рожа вся красная. То есть, не сидит даже, а колени мне на грудь поставил, а весит он тонну, не меньше. И руки мне прижимает, чтоб я, значит, еще раз ему не вмазал. Убил бы.
— Чего за херня, а? — талдычит он, а рожа его дурацкая все больше багровеет.
— Убери свои паршивые колени с моей груди, — говорю. Сам чуть не реву. По-честному. — Давай, двигай, урод захезанный.
А он ни в какую. Руки не отпускал мне, хоть я его обзывал падлой и всяко-разно часов, наверно, десять. Даже и не помню, что еще я ему говорил. Говорил, что он думает, будто может оприходовать кого захочет. Говорил, что ему наплевать, держит девка всех дамок в задней линии или нет, а наплевать ему потому, что он, нафиг, тупой дебил. Он терпеть не может, если его дебилом называют. Всем дебилам это не в струю.
— Пасть свою закрой, Холден, — говорит он, а у самого рожа дурацкая, багровая. — Заткни пасть и все, ага?
— Ты даже не знаешь как ее зовут, Джейн или Джин, нафиг, дебил ты!
— А ну заткнись, Холден, язви тебя в душу, — я тебя предупреди, — говорит он; так я его завел. — Если пасть не заткнешь, я тебе точняк пропишу.
— Убери свои вонючие дебильные колени с моей груди.
— Я отпущу, а ты хлебало свое больше не раскроешь?
Я ему и отвечать не стал.
Он давай еще раз:
— Холден. Я тебя отпущу, а ты орать больше не будешь, лады?
— Да.
Он с меня встал, и я тоже поднялся. Грудь у меня от его гнусных коленей болела, как не знаю что.
— Ты гнусная дурацкая падла даже, а не дебил, — говорю.
Тут уж он без балды с катушек слетел. Дурацким пальцем своим у меня под носом аж затряс.
— Холден, язви тебя в бога, я тебя предупреждаю. Последний раз. Еще разинешь хайло, я тебя…
— А чего и не разинуть? — отвечаю, ору практически. — У вас, у дебилов всегда одно и то же. Вы никогда не хотите ни о чем поговорить. Так дебилов и определяют. Они никогда ни о чем разум…
Тут он мне по-честному и прописал, и дальше я помню только, что, нафиг, снова на полу валяюсь. Не помню, вырубил он меня или нет, но скорее всего нет. Вырубить — это не баран чихнул, только в кино легко, нафиг. Но из носа у меня кровища по всей комнате хлестала. Когда я посмотрел наверх, Стрэдлейтер чуть не на голове у меня стоял. И под мышкой — этот его, нафиг, несессер.
— Ты чего, нахер, не затыкаешься, когда говорят? — спрашивает. Похоже, его будь здоров потряхивало. Наверно, обделался, что у меня в черепе трещина или как-то, когда я на пол грохнулся. Зря это я все-таки. — Сам напросился, язви тебя, — говорит. Ух как его трясло.
Я даже и вставать не стал. Полежал себе на полу, пообзывал его дебильной падлой. Я так разозлился, что чуть не ревел.
— Слышь. Сходи рожу себе умой, — говорит Стрэдлейтер. — Ты меня слышишь?
Я ему сказал, чтоб сам шел умывать свою дебильную рожу — детский сад, конечно, только я так рассвирепел, что не знаю. И еще сказал ему, чтобы по пути в тубзо зашел и оприходовал миссис Шмидт. Это жена коменданта. Ей лет шестьдесят пять.
Я так и сидел на полу, пока не услышал, как этот Стрэдлейтер закрыл дверь и пошел по коридору к тубзу. Потом только встал.
Охотничий кепарь мой, нафиг, куда-то задевался. Наконец я его нашел. Под кроватью. Надел и этот козырек на затылок сдвинул, как мне больше в жилу, а затем пошел и посмотрел на свою дурацкую рожу в зеркало. Такого месива нигде больше не увидишь. Вся пасть в крови, и подбородок, и даже пижама с халатом. Я с одной стороны перетрухал, а с другой — увлекательно. Столько кровищи — уматно же смотрится. Я в жизни дрался всего пару раз, и меня оба раза колотили. Я вообще-то не сильно крутой. Я пацифист, сказать вам правду.
Катавасия у нас была такая, что Экли наверняка услыхал и проснулся. Поэтому я через душевые шторки пошел к нему — поглядеть, что он, нафиг, делает. Я к нему в комнату вообще почти не хожу. Там всегда воняет как-то не в жилу — все потому, что он весь захезанный и с гигиеной у него голяк.
7Сквозь шторки из нашей комнаты падало капельку света, и я увидел, что на кровати лежит Экли. Сразу, нафиг, видно, что не спит.
— Экли? — говорю. — Не спишь?
— Не-а.
Там было вполне себе темно, и я наступил на чей-то ботинок и чуть башкой об пол не дерябнулся. Экли вроде как аж сел на кровати и на руку оперся. Вся рожа у него была намазана какой — то белой дрянью — от прыщей. В темноте мог и напугать.
— Ты вообще какого хера тут делаешь? — говорю.
— В смысле — какого хера? Я друшлять пытался, пока вы хай не подняли. Вы чего там вообще собачились?
— Где тут свет? — Я никак не мог найти выключатель. Шарил руками по всей стенке.
— На фига тебе свет?.. Вон, под рукой у тебя.
Наконец я его нашел и зажег. Этот Экли прикрылся, чтоб светом глаза не резало.
— Бож-же! — говорит. — Чего это за херня с тобой? — Это он про кровь и всяко-разно.
— Это мы со Стрэдлейтером, нафиг, посрались, — говорю. Потом сел на пол. У них в комнате никогда кресел не было. Хрен его знает, что они с ними тут сделали. — Слышь, — говорю, — а ты в канасту не хочешь сыграть?
— Да у тебя еще кровь идет, елки-палки. Ты приложил бы что-нибудь.
— Перестанет. Слышь. Так ты будешь в канасту или не будешь?
— В канасту, елки-палки. Ты вообще в курсах, сколько сейчас времени?
— Еще не поздняк. Всего где-то одиннадцать, полдвенадцатого.
— Всего где-то! — говорит Экли. — Слышь. Мне утром вставать на мессу, елки-палки. А вы там — орать и сраться, нафиг, посреди… А какого хера вообще дрались?
— Долго рассказывать. Не хочу тебя грузить, Экли. Думаю о твоем благополучии, — говорю. Я ему никогда про свою жизнь не рассказывал. Во-первых, он еще тупее Стрэдлейтера. Рядом с Экли Стрэдлейтер — нафиг, гений. — Эй, — говорю, — а ничего, если на койке Эли сегодня посплю? Он же до завтра не вернется? — Я, нафиг, отлично знал, что не вернется. Эли ездил домой почти на каждые, нафиг, выходные.
— Не знаю я, когда он, нахер, вернется, — говорит Экли.
Ух как меня такое достает.
— Это в каком смысле, нахер, ты не знаешь, когда он вернется? Он же всегда только в воскресенье вечером приезжает, нет?
— Да, но, елки-палки, я ж не могу разрешать кому попало спать на его койке, если им приспичит.
Я чуть не сдох. Не вставая с пола, дотянулся и потрепал его, нафиг, по плечу.
— Ты просто принц, сынок, — говорю. — Знаешь, что ты принц?
— Нет, я в смысле… Я ж не могу никому сказать: валяй, спи…
— Настоящий принц. Ты, сынок, — джентльмен и истинный ученый. — И это вообще-то правда. — А у тебя случайно покурки не найдется? Скажи «нет» — или я на месте сдохну.
— Вообще-то нет. Слышь, так вы за каким хером подрались-то?
Я ему не ответил. Только встал, подошел к окну и выглянул. Мне вдруг так одиноко стало. Уж лучше б я, наверно, и точно сдох.
— Так вы все-таки из-за какого хера дрались? — спрашивает Экли уже, наверно, в полусотый раз. Зануда, ни дать ни взять.
— Из-за тебя, — говорю.
— Из-за меня, елки-палки?
— Ну. Я защищал твою, нафиг, честь. Стрэдлейтер сказал, что ты — говнецо человечек. А я такого спустить ему не мог.
Тут он разгоношился:
— Правда? Шутишь? Правда, он так сказал?
Я ответил, что шучу, а затем пошел и лег на кровать Эли. Ух как мне было паскудно. Так, нафиг, одиноко.
— У вас тут воняет, — говорю. — Твои носки добивают аж досюда. Ты их что, в стирку не сдаешь?
— Если не нравится, ты знаешь, что делать, — говорит Экли. Остряк, тоже мне. — Как насчет свет, нафиг, выключить?
Только сразу выключать я не стал. Полежал на койке Эли, подумал про Джейн и всяко-разно. Меня просто сносило с тормозов все это долбанутое безумие, когда я думал, как они со Стрэдлейтером сидят где-то в машине этого толстожопого Эда Бэнки. Стоит подумать про такое — и в окно прыгнуть хочется. Фигня в том, что вы Стрэдлейтера не знаете. А я его знал. Почти все парни в Пеней только трепались про то, как они все время девчонок сношают, — вот Экли, например, — а этот Стрэдлейтер и впрямь их сношал. Я лично знал по крайней мере двух, кого он оприходовал. По-честному.
— Экли, а расскажи мне о своей увлекательной жизни, сынок, — говорю.
— Как насчет свет, нафиг, погасить? Мне утром на мессу вставать.
Я встал и выключил, пусть радуется. Потом снова лег на койку Эли.
— Ты чего — спать будешь на койке Эли? — спрашивает Экли. Само радушие, ух.
— Можно. А можно и нет. Ты не кипишись.
— Я не кипишусъ. Только мне жуть как не хочется, если Эли вдруг придет, а тут кто-то…
— Расслабься. Не буду я тут спать. Я не стану злоупотреблять твоим, нафиг, гостеприимством.