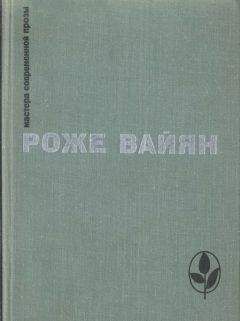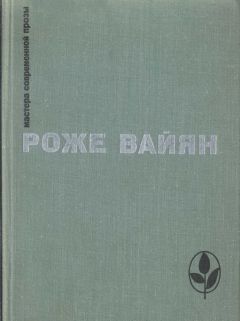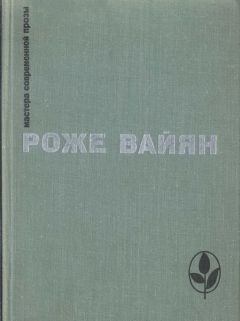Роже Вайян - Бомаск
— Нобле, — сказала Натали, — АПТО истомилось жаждой. Закажите нам что-нибудь, только поживей.
Натали с интересом следила за стариком Нобле. Оказывается, его рачьи глаза могли принимать выражение ненависти. Она ждала взрыва. Но привычка взяла верх, и Нобле подчинился представительнице АПТО. Он поманил старушку буфетчицу.
— Ну как, тетушка Тенэ? — сказал он. — В буфете хозяйничаете?
— Помогаю, чем могу. Ведь праздник-то устроила наша партия, — ответила буфетчица.
Нобле повернулся к Филиппу.
— Вот, полюбуйтесь на нее! — сказал он. — Тридцать лет проработала на фабрике и на старости лет не нашла ничего лучшего, как сделаться коммунисткой!
— Значит, она оказалась понятливее вас, — заметил Летурно.
— Пожалуйста, не говорите так! — взмолился Нобле. — Только не здесь!
— А вы разве не знаете, что Филипп — коммунист? — спросила Натали и, обратившись к буфетчице, добавила: — Да, да, ваш директор по кадрам коммунист. Разумеется, не из опасных. Коммунист в той мере, в какой он вообще может быть кем-нибудь. Коммунист на словах. Не очень-то на него рассчитывайте.
Старуха буфетчица стояла не шевелясь, с бесстрастным выражением лица.
— Что желаете заказать? — спокойно спросила она.
— Бутылку красного, — ответил Филипп.
— Ваш директор по кадрам совсем потерял голову! — воскликнула Натали. Вообразил, что раз мы в гостях у коммунистов, то все должно быть красное, даже вино. Скажите, что у вас есть по части спиртного?
— Коньяк имеется, — ответила старушка.
— Тащите сюда коньяк.
— Для всех четверых? — спросила буфетчица.
— Бутылку коньяку и четыре рюмки, — скомандовала Натали. — АПТО умирает от жажды. И знаете ли, очень интересно получится: господин Нобле немножко выпьет и, набравшись храбрости, ругнет меня. Ведь ему этого безумно хочется.
Нобле встал.
— Позвольте пожелать вам всего хорошего.
Он поймал взгляд Филиппа.
— Завтра я должен к восьми утра быть в конторе.
И он широким шагом пошел через зал.
Несмотря на старомодные черные брюки в полоску, жесткий воротничок с закругленными кончиками и узенький пиджак, этот старый служака не был смешон. У него вдруг появилась уверенная поступь и смелая осанка, как у горцев-крестьян.
— Смотри-ка, а проститутка-то оказалась не такой уж почтительной, как ты думал, — воскликнула Натали.
И все трое весело расхохотались.
* * *Зал постепенно наполнялся.
За одним из столиков в буфете сидели африканцы-землекопы, работавшие на строительстве железной дороги. Они заказали себе лимонаду. На всех были рубашки ярких цветов, пестрые галстуки, праздничные костюмы. Но пригласить девушку потанцевать никто из них не осмеливался, боясь услышать насмешливый отказ: «Ходи-ка лучше по дворам: „Ковры, циновки продаем! Ковры, циновки!“»
Явились на бал парни из местной команды регбистов, все трезвые. Они стали танцевать. Женских пар теперь было уже немного, но они по-прежнему танцевали лучше всех.
К нашему столику подсели Блэз и Мари-Луиза Жаклар, чета педагогов, которых я уже встречал на съезде федерации партии. Их деятельность в качестве активистов заключалась главным образом в том, что во время выборов они предоставляли себя и свой маленький автомобиль в распоряжение партийной организации, помогали устраивать предвыборные собрания, развозили агитаторов по всей округе; на такой работе эти добровольные шоферы ежегодно «накручивали» тысяч двадцать километров. Супруги много читали, подписывались на несколько журналов, коммунистических и других, от «Нувель критик» до «Тан модерн». Когда я встретился с ними в первый раз, они сделали для себя открытие — прочли роман Алексея Толстого «Хождение по мукам».
На балу в Клюзо они тотчас заговорили со мной о своем новом увлечении, о книге Сафонова «Земля в цвету». Мне нравилась их восторженность.
На другом конце стола Миньо и его жена сердито спорили о чем-то вполголоса.
Вдруг Раймонда Миньо вскочила, вся бледная, и схватилась за бедро.
— Боли! Опять боли! — воскликнула она.
Миньо и Кювро подхватили ее под руки — она стояла на одной ноге, другую ногу свело судорогой, — потом у Раймонды началось удушье.
— Мы ее отвезем домой на машине, — тотчас предложила Мари-Луиза Жаклар.
Раймонда простонала, задыхаясь, останавливаясь после каждого слова:
— Доктор… доктор… предупреждал… чтобы не раздражали меня… иначе опять вернутся боли…
Миньо и один из распорядителей повели ее на улицу к автомобилю.
— Зачем ты с ней споришь? — упрекал его потом Кювро.
— Не могу я выносить, чтоб моя жена и вдруг называла африканцев «черномазые обезьяны».
— Это правильно, конечно… — согласился Кювро. — Но ведь ты же ее знаешь…
— Как только вошли в зал наши африканцы, она принялась меня шпынять, зачем я вожу ее в такие места, где бывают «черномазые обезьяны». Не мог же я это спустить.
— Ты ведь ее знаешь, — повторил Кювро. — Не надо было приводить ее сюда.
— Она постоянно пилит меня, что я никуда ее не беру, что она скучает дома одна.
Народу набралось много. Мари-Луиза Жаклар кое-что рассказала мне о супругах Миньо. Раймонда — дочь богатых крестьян, родители ее живут в деревне в Брессе. Ее братья и сестры все крепыши, здоровяки, только она одна уродилась хворая. В годы войны она жила спокойно, читала бульварные романы, покупая их целыми охапками, по пятьдесят выпусков, на ярмарке в палатке странствующего букиниста. В дни Освобождения ей исполнилось двадцать лет; она только и мечтала, как бы распроститься с родительской фермой, избавиться от черной работы; отец заставлял ее откармливать на продажу уток и гусей. Когда Фредерика Миньо назначили начальником почтового отделения в главном городе кантона, он основал там местную секцию СРМФ [5]; на организационное собрание была приглашена молодежь из всех окрестных сел. Раймонда, заметив, что она приглянулась Фредерику, решила вступить в Союз. Они поженились в тот год, когда Миньо, сдав конкурсный экзамен, получил место инспектора почтового ведомства и был назначен в Клюзо. Раймонда надеялась завязать знакомство о местной знатью. Однако Миньо приводил к себе домой только коммунистов; три раза в неделю он уходил по вечерам на собрания, в остальные вечера читал или готовился к выступлениям. В первый раз «боли» появились у Раймонды в то воскресное утро, когда у нее в доме сел за стол рабочий Кювро, приглашенный к обеду. Раймонда ненавидела Кювро за то, что он резал правду в глаза, как ее родной отец, брессанский крестьянин. Припадки ее выражались в блуждающей судороге, сводившей то руку, то ногу; однажды боль подкатила к сердцу, Раймонда впала в глубокий обморок; боялись, как бы она не умерла. Миньо стал возить жену к докторам, объездил с ней всю область, даже лечил ее у какого-то знахаря в Сент-Мари-дез-Анж.
— Недавно мы возили ее в Лион, к невропатологу, — сказала Мари-Луиза.
Вернулся Миньо.
— Тебе бы следовало выступить, — сказал он Пьеретте Амабль.
— Только не сейчас, — возразила Пьеретта. — Одни увлечены танцами, а другие пьяны и ничего не поймут.
— Но ведь так нельзя! Коммунисты устраивают вечер, и никто из нас не выступит с речью! — возмущался Миньо.
— О чем, по-твоему, я должна сказать? — спросила Пьеретта.
— Скажи о необходимости единства между трудящимися.
— Выступи сам, если у тебя хватит храбрости.
— Нет, говори лучше ты, — настаивал Миньо.
— Не понимаю — почему?
— Потому, что меня не любят, — заявил Миньо.
— Ну что ты выдумываешь? — воскликнула Пьеретта, и на мгновенье тень затуманила ее большие черные глаза.
В зал вошел Красавчик и направился прямо к нашему столу.
— Добрый вечер, мадам Амабль, — сказал он, энергично встряхнув ей руку.
Я глядел на него с удивлением. Пожимая Пьеретте руку, он расправил плечи и слегка откинул назад голову: так итальянцы здороваются, когда хотят выразить кому-нибудь особое свое уважение (немцы в таких случаях низко склоняют голову, а поляки сгибают стан). Но меня удивило не только то, что он как будто вытянулся во фронт перед Пьереттой. Изменился даже звук его голоса, и в его приветствии: «Здравствуйте, мадам Амабль» — не было нежных или чуть насмешливых заговорщических ноток, которые обычно проскальзывали в его разговорах с женщинами и, случалось, раздражали меня; теперь в его тоне я даже усмотрел некоторую чопорность. И почему он сказал «мадам Амабль», когда все здесь называют эту молодую женщину просто Пьереттой?
— Добрый вечер, Красавчик, — ответила Пьеретта. — Что ж ты так поздно?
— Нынче весь день я провел с земляками в горах, выше Гранж-о-Вана. Они там жгут в лесу уголь.