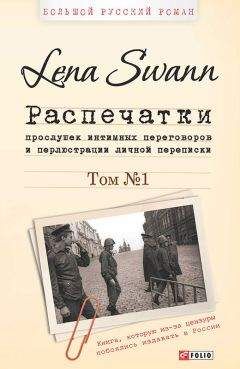Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2
С азартом, и тут же забыв про капризы, Елена ломанулась в заросли, однако ровно через секунду выскочила оттуда с визгом: «Ой, змея!» — потому что нечто невидимое и увесистое недвусмысленно прошуршало по дереву в ее сторону — и Елена, с казавшейся ей потом самой удивительной спринтерской прыгучестью, сиганула от кустов вверх по тропинке к Анастасии Савельевне одним гаком метра на три, без всякого шеста.
Но змея дружелюбно сказала ей вслед «Ммммеее!» и обернулась чистенькой белой козой, отвязавшейся от колышка и тоже зашедшей полакомиться инжиром; коза тут же на всякий случай вылезла из-под кустов, демонстрируя свою криво ухмыляющуюся жующую бородатую физиономию, чтобы окончательно развеять недоразумения насчет собственной личности.
А потом был чай, неожиданно желанный при такой жаре, за круглым столом в саду под той самой черешней — хозяева домика, заметив женщину с девочкой, глазевших через забор на покосившийся давно не крашенный бурый дощатый дом с верандой («Слушай, не могу понять — тот или не тот?»), приветливо спросили, чем они могут быть полезны, а услышав Анастасии-Савельевнины охи да ахи, да имена прежних владельцев дома, пригласили зайти и пополдничать — и были теруны из картошки, приправленные густой самодельной сметаной из стеклянной банки, в которой «стояла» ложка; и творожные ленивые вареники с черешней; и хозяйка с хозяином, удивительно одинаково пухленькие, удивительно одинаково складывающие руки на животах, с удивительно одинаковыми картофельными носами (только у него все это венчалось нимбической лысиной, а у нее — седеньким пучком), с одинаковыми лучистыми тихими улыбками говорящие: «Да-а-а… Ну да что теперь поделаешь — надо жить дальше» — после рассказа о том, как его, подающего недюжинные надежды ученого-биолога, травили на работе в Питере, и был выбор — либо-либо… И он оказался в тюрьме. Она — играла в театре, но… «Короче, что теперь поделаешь — надо жить дальше. Вот, чудом, после того как он вышел, через далеких стареньких родственников удалось устроить родственный обмен и переехать сюда. Работал ветеринаром, а теперь уж на пенсии. Ну ничего, как-то же надо дальше жить!»
Засиделись до ночи, и хозяева уломали их остаться переночевать («Да что вы? Как же вы теперь пойдете-то?»), постелили на раскладушках, на открытой веранде, но ни Анастасия Савельевна, ни сама Елена, так и не прилегли до самого рассвета; и, хотя не было холодно, накинув на себя для порядку поверх одежды простыни — «от комаров», как завороженные все смотрели вдаль из-под «того самого» дерева в саду, откуда открывался вид на парчовое море, и корабли, казавшиеся крохотными бисеринками и блестками в море, сорванными и унесенными туда ветром с карусели или иллюминации на набережной; и казалось, глядят они вниз в подзорную трубу с обратного, широкого конца, и не верилось глазам — как это все предметы, которые еще днем внизу казались гигантскими, теперь специально искусственно уменьшились, чтобы разом поместиться во взгляд. А когда зажмуришься на секунду — и резко разожмешь глаза — море, становилось темным зеркалом звездного неба, залитым в нижнем полукруге того же телескопа, а звезды — наоборот — как будто бы увеличены гигантской, надвинутой специально для них, линзой. И часа в два ночи — глядь — с неба, со звезд стащили защитный купол, сдернули на одну ночь — и теперь звезды не лежали больше, как обычно, далеко, под музейным стеклом, а пари́ли и жили в свободном, вольном доступе — рядом! — вот они! — кончиками пальцев можно дотронуться! И Анастасия Савельевна, задрав голову вверх, наконец, окончательно признала по звездам место, и боялась шевельнуться, и только приговаривала: «Ах, Ленка… Я вот здесь же вот тогда…»
На рассвете, дрожа от недосыпу, спустились уже другой, менее петляющей, но более длинной, тропинкой, подсказанной хозяевами дома. Дивясь тому, как перевернутая ночью умозрительная подзорная труба медленно, но неумолимо проворачивается обратной стороной: так что через полчаса быстрого спуска толстые теплоходы и самоуверенные катерки на солярке опять отвоевали свой увесистый архимедов размер, и опять было уже трудно поверить в существование наверху дачи в черешневых ветвях и гостеприимных… имен-отчеств их Елена теперь уже вытребовать из памяти, увы, никак не могла.
Сейчас, когда своим удивленным, но вполне расслабленным, квохчущим «Охо! Ты что тут?! Охо!» южные голуби буквально из воздуха, как бы случайно, соткали заново в ее памяти и Крым, и, продолжая небесное кружево, притянули к крымской ткани на тонкой невидимой воздушной ниточке эту гипнотизирующую зеркальную ночь в Гаспре, это очень черное море, и опрокинутое на них с Анастасией Савельевной небо, в котором сияло стотысячье глаз, и на которое было поначалу даже жутко смотреть, потому что звезды оказались теплыми, близкими, живыми, моргающими, отвечающими на твои вопросы, отражающими взгляд, перемигивающимися с тобой — Елена, невольно вздрогнув, подумала о том, что подсмотрела там, давно, вверху, на горе, в Гаспре, вместе с матерью, именно ту, ту самую застывшую, предельную, последнюю картинку, тот самый стоп-кадр, что унесли на сетчатке глаз в память о гибнущей родине тысячи русских семей, уплывавшие на кораблях в Турцию и Грецию (как будто наивно надеясь, что архаические, мифические, только в вечности уже существующие хризостомский Царьград и элладийские первоапостольские Острова вновь подставят дырявые ладони тем, кому они когда-то передали эстафету веры, а вместе с верой, как прикладной дар, и величайшую культуру, которые после переворота семнадцатого, по списку, в такой же последовательности, убивались), и оттуда растерянно рассеивавшиеся, по занудным и ненужным государствам, драгоценным золотым песком (у мира сквозь невежественные, не ценящие этих богатств пальцы), спасавшиеся бегством после переворота и трех нескладных лет попыток противостоять головорезам, когда власть в стране была захвачена кучкой аморальных бандитов, причем захвачена настолько нагло, нелепо и беззаконно — что, как каждому из бежавших, судя по уцелевшим воспоминаниям, тогда казалось — ненадолго, — а вот уже длилось и длилось это проклятье до сих пор, почти вечность: почти век.
Лежа в ванной, и, то погружаясь с головой в розовую пену с запахом бабл-гама, то разглядывая мультяшную бутылочку из-под детской пенки на краю ванны, убедительно гарантировавшую, что слёз больше не будет, и слушая, слушая, слушая ухукающих южных голубей под окном, Елена вновь и вновь спрашивала себя: а что, если бы это она жила тогда, в начале прошлого века — если бы в тысяча девятьсот семнадцатом, в двадцатом, она была бы уже взрослой, и если бы это был ее выбор — с кем бы она была? — с теми, кто уехал, унося в сердце не существующую больше в физическом измерении Россию — или с теми, кто предпочел жить любой ценой на привычной территории, быстро превращенной в один сплошной громадный концлагерь, а следовательно, — либо сражаться против бесовской сволочи и погибнуть, либо волей-неволей день ото дня мутировать под вурдалачьи порядки? И заново чувствовала, осязала, видела ту ночь в Гаспре и вдыхала ее ароматы, которых не в силах была перебить никакая бабл-гамовая парфюмированная отдушка, никакая из окружавших заграничных декораций; и опять сжималось сердце, потому что фантазия, дорисовав постфактум все внутренние пунктирные линии, сведя вдруг всё воспоминание в единую вспышку, подсказывала ей, что, сами того не желая, они с матерью простояли в ту ночь в Гаспре, как две поминальные свечи, завороженно застыв в зазеркальном отражении прощального взгляда перестававшего существовать, такого близкого, всем естеством чувствуемого племени (от которого остались теперь только слова и дома), не сдавшегося, но оставлявшего родные берега навсегда; вернее даже (и это жутковато было ощущать), в каком-то универсальном, надвременно́ м измерении, на какую-то секунду они с Анастасией Савельевной стали тем, что заключил в себя взгляд тех мифологических, родных беглецов (святых, грешных, амбициозных, щедрых, пропоиц, праведников, гордецов, женолюбов, девственников, транжиров, анахоретов, обжор, постников, затворников, скандалистов, молитвенников, юродивых, гениев, монахов, философов — всяких, щедрой поварешкой заваренных — но, без малейшего сомнения — живых, живых людей, человеков, — в противовес наступающей озверевшей, беснующейся, ликующей нелюди) — взгляд, разнесённый в Вечности, навсегда отпечатавшийся там, в Крыму, на небе и море; в той последней точке, которую те тысячи русских глаз видели с кормы кораблей, уходивших из Крыма — из этого буфера, где до запредельной невозможности цеплялась жизнь, нормальная человеческая жизнь, где пыталась задержаться душа, вытесняемая нечистью из тела России — и, по страшному символизму, душа вытекала, бежала именно из той морской горловины, через которую когда-то влилась христианская вера; крайняя точка, клочок земли, прощальный абрис гор, где была окончательно похоронена надежда на выживание родины — которая вскоре вся без остатка была выпотрошена и уничтожена одержимыми, тупыми, малообразованными, остервенелыми, озабоченными, всю жизнь в плоть (причем, мертвую) превратить пытающимися, бездушными маньяками-богоборцами, в своем богоборчестве взахлеб спешивших убить заодно и как можно больше существ, созданных по Божиему образу и подобию.