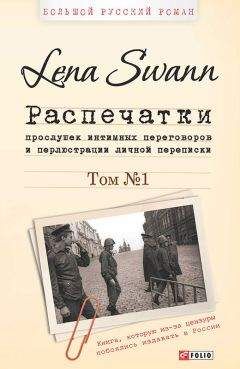Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2
Мать, впрочем, прежде, до самой Горбачевской «перестройки», ни о какой политике никогда не говорила, и, кажется, даже и не думала. Всю жизнь прожившая в Москве, и успевшая в Кераимиде только родиться (предусмотрительно выговорив себе право появиться на свет на брезгливую квинту дней раньше начала второй мировой — чтобы авансом не портить дня рождения), а после приезжавшая в Крым только искупаться, Анастасия Савельевна любила, однако, сидя дома, в Москве, на жаркой трехметровой кухне (с безнадежно засаленной советской вытяжкой, только ухудшавшей чад), порассуждать о том, что у нее врожденная ностальгия по морю, и, подражая утёсовскому баритону, с пробивающими на слезу дрожащими гласными, напевала: «У чё-о-о-о-рна-га…» — заводя правой кистью штормовую волну на самый верх и вдруг разом обрывая ее с утеса: «Мммора!», и тут же всей рукой показывая, как шквал обрушивается обратно в море и превращается в пену.
И странным образом этот музыкальный жест всегда вызывал в памяти человека, мальчика, которого Елена никогда не видела живым, но который с самого детства был для нее как будто рядом. Лёня, троюродный старший брат Анастасии Савельевны, живший в Кераимиде, загорелый, с неизменной широченной улыбкой, которого Елена узнавала на фотографиях рядом с матерью: то семнадцатилетним, смеющимся и брызгающимся, в лодке, на вёслах (там Анастасия Савельевна еще совсем маленькая, худенькая, так и не успевшая отъесться после войны за голодное детство, девочка с косичками, закрепленными шелковыми лентами крест-накрест — в модные в то время «баранки»), то двадцатилетним, смеющимся, широкоплечим, жизнерадостным атлантом, помогающим Анастасии Савельевне, приехавшей к нему в гости на летние каникулы (уже повзрослевшей красавице, казавшейся сестрой-близняшкой Джинны Лоллобриджиды, с длинными смоляными вьющимися волосами, и все с такой же нереально худой талией) взбираться на какой-то скользкий осколок скалы в море. То… — впрочем, вскоре курортные фотографии оборвались. Вечно двадцатичетырехлетним Лёня стал в Кераимиде в начале 60-х. После конфликта с парткомом завода, на котором после института работал мастером цеха, Лёня внезапно упал с высотного крана. Пятеро человек из органов в день его гибели провели у него дома обыск, и изъяли и арестовали все его дневники (вот уж единственное, из этого жанра, за возможность прочитать которое дорого можно было бы заплатить!), ведшиеся им ежедневно и запираемые в ящике письменного стола. И по необъявленным причинам родным никогда так и не позволили увидеть его записей. Семье внушали, что это самоубийство. А в доказательство предъявили только его советский паспорт, титульный лист которого он, незадолго до гибели, перечеркнул крест-накрест шариковой ручкой и аккуратно надписал своим круглым детским почерком: «Будь проклят тот день, когда я получил этот документ». С какой-то убийственной иезуитской иронией органы убеждали родных, что погибший был душевно больным, и что главный признак болезни — его повышенная брезгливость: а именно то, что он брезговал есть из плохо вымытой посуды в общественных столовых.
По досадной оплошности, на теле «самоубийцы» (труп — в отличие от дневников, изъять и уничтожить не успели) были ярко и внятно записаны следы борьбы, синяки, и, как постскриптум, израненные пальцы и разодранные стигматы на запястьях и под локтями, свидетельствовавшие, что, когда его уже скидывали вниз, он отчаянно пытался зацепиться за перемычки крана. Ага. Брезгливость к миру. И из брезгливости к миру записывал что-то брезгливое в дневнике про особо гнилых торжествующих червяков мира сего.
А через месяц после того, как расследование было закрыто, к родным подошел на улице робкий человек с тиком, и тихо, но четко выговорил смертельную шараду:
— Я видел: на кран поднимались двое — а после спустился один.
В Крыму южные голуби томно говорили: «Ку-ку-у… — шка!»
А здешние, баварские — завидев валившее из окна ее ванной варево пара, все повторяли с чуть сонным изумлением:
— Ого?! Ты что тут? Ого!
Извернувшись вверх тормашками, все еще полоща волосы, и паря́ в пене, она увидела запотевшее окно вниз головой — круглое окно от этого, впрочем, не сильно пострадало — и опять крепко приладила к нему книжное прилагательное, которое раньше в жизни не к чему было приложить — «слуховое», — а уже через пять мокрых скользких шагов — «смотровое».
Увидеть самих голубей отсюда было невозможно. Видно было только, как тяжело качались под их тельцами лапы развесистого молодого горизонтального кипариса — вон там, под облаком застрявшего ванного пара, на уровне кипарисовых плеч; пар кружился и играл; кипарис, как в сильно замедленной съемке, крайне лениво, но все же с цирковой ловкостью (ничего не падало!), крутил на хвое туманный хула-хуп.
Кто-то невидимый из сада опять пробормотал «уху…» — и заснул на полслове.
Она откатила побольше иллюминатор, подтянулась на мокрых мысках (большие пальцы ног уже через несколько секунд перестали существовать как часть тела, превратились как будто в костяные пуанты), и гусиная кожа побежала пупырышками по рукам, как будто следуя силе притяжения окна и подтягиваясь к нему со всей силой вслед за ее же носом; высунула в нижнюю оконную дольку левую руку, по локоть, и щеку — чувствуя, как быстро холодает снаружи сразу же после заката солнца — и как будто окунулась в холодную ванну. В сад на дорожки с верхушек деревьев пар сползал очень медленно, как будто действительно зацепился за их ветки — сближался, но не смешивался с поднимавшимся снизу от земли туманом. А чуть поодаль, справа, густо выведенный молочными чернилами по синьке воздуха, висел буквой эс-цэт дымок еще и третьего рода — Марга, хозяйка дома, прячась от дочери, присев на корточки, сладко курила у задней низенькой калитки, обсаженной кизильником.
Елена провела пальцем по облупившейся скорлупе белой рамы с крупными каплями испарины, внятно притронулась всей ладонью в самом центре к запотевшему стеклянному кругляку, даря иллюминатору свою дактилоскопию, и бултыхалась обратно в ванну — думая о том, что вытеснила сейчас, наверное, столько же воды на пол, сколько и упитанные голуби — воздуха из-под кипарисовой подмышки при резком под нее приземлении. И, что голуби в ды́мке сейчас, наверное, так же себя чувствуют, как и она в этой пене. И, что — духовое, конечно же! — окно же все-таки называется духовое, а не слуховое. И — вообще, чувствуют ли они сейчас в саду этот смешной запашок бабл-гама?
Конструируя фрезу из пены за шеей, смешно лопавшуюся у самых ушей с пенопластовым шелестом и, неизменно (как только произведение пенного искусства достигало масштабов медичевского стоячего воротника), отваливавшуюся сзади через край ванны на пол; удивляясь в самых неожиданных меридианах всплывающим на другом полюсе океана большим пальцам ног — перископам, за которыми вслед целиком выныривали субмарины ступней, и в ту же секунду обращались произведением скорее стиля модерн-арт, в сияющих радужных пузырьковых черевичках; а потом, погружая гипертрофированные инфузории-туфельки обратно в пучину и случайно зацепившись за хромированную цепочку от ванны большим пальцем этой пузырьковой туфельки, выдергивая цепь как леску с грузилом из пруда; а почувствовав водоворот, спешно прилаживая пробку пяткой обратно, отчего разинувшая было пасть на добычу силурийская прорва сточной трубы затыкалась, но с полминуты еще недовольно гургукала; набирая побольше пены в поднятые руки и пытаясь сжать горячий снежок между ладоней, и чувствуя удивительно приятный факт: в руках как бы ничего нет — одни пузыри — а как бы и упругая пена не дает похлопать в ладоши; а потом поворачивая к себе пятерни и, будто впервые, рассматривая ставшие от горячей воды новорожденными, стянутыми, сморщенными, подушечки пальцев; и опять погружаясь с головой в пену (слёз действительно не было, не обманули) — она заново покадрово просматривала в звучно трескающихся пузырьках купюры — как будто крутя перед глазами на пальцах пенную киноленту — кадры, вырезанные загадочным внутренним цензором и из какой-то странной, собственнической, жадности не предъявленные Крутакову.
Вот она на Хауптбанхофе плюхнулась, вместе с Дьюрькой, на мягкие сиденья в вагоне Эс-Баана (думая о том, что в аббревиатурах «Ууу-Баан» и «Эс-Баан» явно слышится что-то готическое — прям-таки парочка типа Брюнгильды и Кремхильды).
Через проход от них, на одну секцию вперед, пожилая монахиня, щеголяя нарядным черным шапероном со сливочной подливкой, сидела, скрестив ноги в туфлях на умеренно высоких квадратных каблуках (видимо, прописанных от плоскостопия) и с аппетитом уминала крендель с солью. Напротив — белокурая женщина, от которой, собственно, в основном только и разглядеть можно было, что волосы (лицо было густо завешено распавшимися из заколки-автомата кудрями), спала на локте, положенном вместо подушки на ручку коляски, где в центре несоразмерно пышного оклада пелерин виднелось совсем маленькое, тоже спящее, круглое розовое только что сделанное личико.