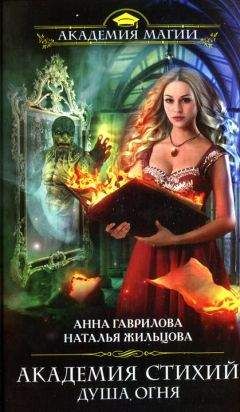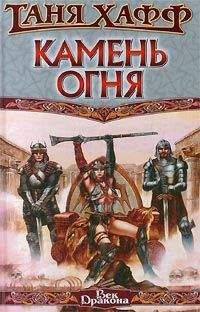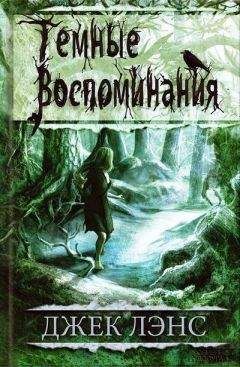Клер Дедерер - Йогиня. Моя жизнь в 23 позах йоги
Я соглашалась гулять с кем угодно, когда угодно. Лишь бы выбраться из дома. Но у меня были три лучшие подруги, и с ними мне нравилось гулять больше всего.
Худышка Рути была безумно влюблена в своего малыша. У нее были огромные глаза и изящный носик. Когда она надевала платье и красила ресницы, мы звали ее герцогиней, но такое теперь случалось нечасто.
Лиза, первая из нас, кто родила, была стройной, светловолосой и прекрасной, как валькирия. Пока остальные напивались и пытались предпринимать какие-то карьерные шаги, Лиза вышла замуж и начала рожать в нежном возрасте двадцати трех лет. В наших кругах это приравнивалось к криминалу. У нас было негласное правило: никто не выходит замуж раньше двадцати восьми, никаких детей до тридцати. Теперь у Лизы было четверо зеленоглазых белобрысых детишек — и кто мог винить ее за усталый и рассеянный вид?
Наша подруга Изабель, единственная, у кого детей не было, была высокая, элегантная, с длинными руками и ногами; она была художницей и скульптором в стиле минимализм. На всех ее картинах была изображена одна линия, больше ничего. Изабель по-прежнему ходила на рок-концерты и имела друзей-мужчин. Она и ее гламурный муж, панк-рокер и дизайнер интерьеров, ездили в Португалию и Марфу в Техасе и тусовались с такими ребятами, как Джон До из группы «X». (Забыли о Джоне До, а? Так знайте — он по-прежнему крут.) Она была единственной из наших знакомых, кто все еще ходил на ланчи с ребятами с рекорд-лейбла «Sub Pop», познакомившими мир с «Mudhoney» и «Nirvana». Она всегда была круче нас всех, но теперь, когда у нас появились дети, вовсе стала как из другого мира.
Рути, Лиза, Изабель, я и наши парни — всех нас объединяла растраченная юность. Я умудрилась растянуть колледж почти на десять лет. Занятия, путешествия, рок-концерты, дерьмовая работа, бранчи в ресторанах, которые были нам не по карману, безумные ночи игры в покер, другая дерьмовая работа, еще рок-концерты, сёрфинг… Мы фанатично держались этого распорядка. Почти десять лет мы его соблюдали. Нам очень нравилась наша ненапряжная жизнь — мы изучали мир.
Обычная история для женщины моего поколения. Полагаю, не стоит углубляться в детали, достаточно лишь сказать, что почти десять лет я парила на облаке и купалась в лучах любви. Не любви к какому-то конкретному человеку, а любви своих друзей, компании, которая обычно собирается, когда вам лет двадцать. В нашей были художники, музыканты и дизайнеры. Вместе мы обладали жестким чувством юмора и прощали друг другу всё. Идеальное сочетание качеств, казалось мне: мы беспрерывно смеялись друг над другом, а потом забывали всё.
На местном рынке я купила дурацкие бирюзовые купальные шапочки в полоску для каждого из наших. Мы носили их по ночам, чтобы видеть друг друга в переполненном баре. Это была любовь.
Этот сценарий — валять дурака до тридцати с друзьями, которые заменили семью, затянуть взросление до самого переломного момента: тридцатника — не единственный для людей моего поколения. Но один из. Этот феномен давно заметили те, кому положено замечать такие вещи. Он называется «затянувшийся подростковый возраст». Психолог Джеффри Арнетт назвал его «позднее взросление». Мне нравится второе название, за такое и дают гранты в Психотерапевтической ассоциации. Журналист «Нью-Йорк тайме» Дэвид Брукс использовал другой термин: синдром Одиссея.
Но вот что интересно: до тридцати мы делали что хотели. Я не всегда была счастлива, и не всегда было легко придумывать очередное развлечение на ходу. Но я была звездой этого шоу. А также причиной своих неприятностей, как и веселья. Работа, квартиры без мебели, сменявшие одна другую, — всё это я сама себе выбрала. Я была свободной частицей, путешествующей по ландшафту, который сама и построила: бары, залы для лекций, кафе, игровые комнаты. Мы с друзьями целое десятилетие прожили, руководствуясь одним лишь туманным принципом: быть крутыми (или старались хотя бы). Мы «жили в барах», как поется в песне Кэта Пауэра. Годами мы работали на любой работе, лишь бы она давала нам возможность заниматься искусством, писать или просто ходить на рок-концерты.
Но потом родились дети, и наша жизнь стала совсем другой. Мы перестали выходить из дома, перестали пить, ходить на рок-концерты и открытия галерей. У нас просто не было сил интересоваться всем этим. Я печально смотрела, как моя крутизна уплывает от меня. Я думала, она была моим домом, но она оказалась пароходом, а я — временным пассажиром. Прощай, махала я ей с берега. Увидимся через пятнадцать лет, когда ты вернешься за моим ребенком. Пока!
И вот на смену крутизне пришла правильность. Правильность была новым понятием для меня и моих друзей, но мы ухватились за нее с фанатичностью новообращенных. Мы поменяли предпочтения кардинально и бесповоротно. Мы были похожи на марширующий оркестр, все члены которого в нужный момент разворачиваются, чтобы солнце не светило в глаза.
Сегодня я встречалась с Руги. Припарковавшись, я достала своего гигантского ребенка из детского кресла, выполнив потенциально опасный маневр с поворотом и поднятием, чудом не повредив спину. У Люси отросли мягкие светлые кудряшки, которые висели у лица, как связки сосисок. Это было мило до абсурда, и прежде чем перейти через улицу, я задержалась и полюбовалась.
Мы с Руги были знакомы больше десяти лет, и каждый год она меня удивляла. Она работала в программе по защите диких животных и однажды приехала на вечеринку с медвежонком на заднем сиденье своего джипа — «Мне его только в приют забросить надо, это недолго». Когда-то она была солисткой панк-рок команды «Школа волшебства». В городском парке она могла определить канадского гуся на глаз и подхватить его под мышку, как волынку с перьями. Всю жизнь была вегетарианкой, но начала есть мясо после того, как подчиненные-вегетарианки на работе стали раздражать ее своей праведностью: решила подать пример. Ее мозг — как Версаль: зал за залом, двери открываются, и всё время натыкаешься на что-нибудь неожиданное.
Нам с Рути вместе пришлось осваивать материнство. Но она быстрее поняла что к чему. Ее сын, которому было чуть больше года, до сих пор спал с ней и ее мужем Генри в одной кровати. (В северном Сиэтле совместный сон, как это называлось, был синонимом хорошего ухода за детьми. Даже ценой сна родителей.) Она кормила по требованию. Бегала за Джеймсом, который ковылял по дому, и подсовывала ему экологически чистую еду. Такое поведение — совместный сон, кормление до энных лет, обеспечение всех нужд ребенка в ту же секунду, как он дал о них знать, — и характеризовало правильных родителей из Сиэтла. По меркам нашего общества Рути была прекрасной матерью. И она была счастлива.
Ее сын был на полтора года старше Люси, и я смотрела на Рути во все глаза, пытаясь понять, как же стать такой же правильной, как и она. До сих пор ничего не получалось.
Всё было серым: небо, вода, ветки деревьев. Ветер вносил новые оттенки серого. Рути прекрасно вписывалась в пейзаж: серая шапочка поверх темных волос. Джеймс сидел в рюкзаке за ее спиной и весело махал нам ручкой.
Мы с Рути обнялись; она всегда говорила «Привет, Клер» таким голосом, будто встреча со мной — лучшее, что случилось с ней за день. Мы отправились на прогулку, как отшельники, отбывающие наказание: наворачивать круги вокруг озера за свои грехи.
Джеймс потянул Рути за волосы; она ойкнула, но беззлобно. Кажется, это существо, произведенное ею на свет, до сих пор не перестало ее изумлять.
— Джеймс зафанател от Джимми Дейла Гилмора.
Я рассмеялась:
— Что?
— Я ему ставлю, а он улыбается и танцует. У детей хороший вкус.
Как-то вечером, после концерта в Балларде, вся наша компания совершенно влюбилась в чудаковатого кантри-рокера из Остина Джимми Дейла Гилмора. Мы купили ему пива и сидели как зачарованные, даже ребята, слушая, как он говорит, что ему нравится в Сиэтле и тут у нас хорошее пиво. А теперь вот Джеймс его слушает. Джеймс, лысый, который болтает всякую бессмыслицу. Вот так теперь всегда и будет, подумала я. Всё хорошее, даже нашу музыку, даже наших любимчиков из Техаса заберут себе дети. Так несправедливо.
Мы прогулялись еще немного, но остановились, когда ветер сорвал одеяло у Люси и попытался унести его.
— Мы с Генри думаем завести еще.
— Что еще? — рассеянно спросила я, подтыкая одеяло.
— Еще ребенка. А ты о чем подумала?
— А… этого. Ну, ты знаешь мою позицию по этому поводу. Один ребенок у меня уже есть. Зачем мне еще? Ладно, пошли дальше. Не обращай внимания на ее крики. Может, уснет.
— Джеймсу нужен братик или сестричка. Не хочу, чтобы он превратился в одного из этих гадов, которые единственные в семье. — Нам стало смешно. Мой бывший парень был одним ребенком в семье. Правда, он сам всегда так шутил по этому поводу.
— Зато у них высокая самооценка, — возразила я, вспомнив монументальное самомнение своего бывшего.