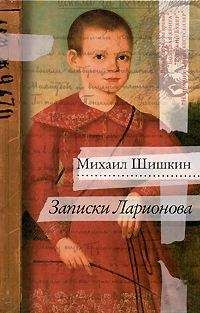Михаил Шишкин - Всех ожидает одна ночь. Записки Ларионова
Приехав в первый раз в город Джойса, я направился сразу с вокзала на кладбище Флунтерн. Трамвай был полон до самой конечной. У кладбища все сошли и направились вместе со мной по дорожке между надгробиями в сторону, куда указывала стрелка «К Джеймсу Джойсу». Мне стало не по себе. Чем ближе мы подходили к Джойсовой могиле, тем многочисленнее становилась процессия. Место захоронения окружала уже плотная толпа — это в будний-то день и при отсутствии какого-либо юбилея.
Я всегда предполагал, что автор «Улисса» более почитаем на Западе, чем на моей родине, но такое…
Потрясенный, я искал какого-то подвоха. И, увы, сразу нашел: хоронили Элиаса Канетти, завещавшего закопать себя рядом с великим слепцом.
Свой «Спасенный язык» Канетти начинает с первого детского воспоминания. Двухлетнего, его пугает некто (как через много лет выяснится — любовник няньки), лязгая перочинным ножом и злодейски шутя: «А вот мы сейчас отрежем ему язык!» Страх остаться без языка будет преследовать ребенка, подростка, юношу, писателя многие годы и всю жизнь.
Что-то подобное испытал и я, увидев на щедро размалеванном заднике Альпы. Страх остаться без языка. Кругом лязгал швицердюч.
Потом все стало на свои места.
Собственно, все просто: я должен был спасти свой язык. Мой язык должен был спасти меня. Я стал писать роман сначала, но уже по-другому и о другом.
Просто стало как-то очевиднее, что нужно писать чисто и ясно.
Наречие, лишенное артиклей и богатое падежами, как скота, так и людей, рассчиталось «на первый-второй» и построилось в две шеренги: переводимое и непереводимое. Причем и переводимое при переводе не столько переводилось, сколько, скорее, мутировало.
Скажешь любое слово, самое безобидное, самое объективное, например, наука, — и начинается непонимание. Одно дело, ученый здесь занимается земельными отношениями в пятнадцатом веке в кантоне Гларус, где и спустя пятьсот лет та же земля принадлежит той же семье. И совсем другое дело — вопрос о частной собственности на землю там, где такая наука — масло в огонь будущей гражданской войны.
И так любое слово в словаре.
Опыт языка, прожитой им жизни, делает языки с разным прошлым несообщающимися сосудами. Прошлое, живущее словами, не поддается переводу, то самое русское прошлое, которое никогда не факт, но всегда аргумент в бесконечной махаловке.
И каждое слово по отдельности и все вместе — только усугубляют невозможность межъязыкового понимания, горизонтальной коммуникации.
Задача языка — после Вавилонской башни — и заключается в непонимании.
Искусство русской речи имеет свой закупоренный аромат, присущие только веществу русской литературы ингредиенты. Можно перевести рассказ о первом и последнем дне Блюма на русский язык, но это вещество отечественной словесности текст Джойса отторгает. Кровь слов сворачивается. «Русский Улисс» может быть только «с человечкиной душой».
Студенты цюрихского славянского семинара читают Хармса (со словарем и восхищением), но это не тот Хармс. Швейцарский Хармс о чем-то другом. Наш — однояйцевой близнец того же Платонова. Их слова, выброшенное на альпийский ветер, звучат в русском веществе чисто и ясно.
Обериутский абсурд — развитие башмачкинского реализма в стране, где война и выбрасывание старух из окон есть просто образ жизни. Самый абсурдный и хармсовый текст поневоле становится тем самым рупором, через который старухи что-то вякают перед тем, как шмякнуться на асфальт.
Эта болезнь здоровая, и с ней можно дожить до самой смерти. Причины ее — отчасти в генетической предрасположенности, отчасти — в родовой травме.
Достаточно бросить взгляд на этапы большого пути отечественного бумагомарания. Сперва погоны, ленты, оды на восшествие. Потянув лямку, в общем-то, совсем недолго, русская словесность вышла в отставку. И, начитавшись на досуге и прозрев, вспухла от ощущения собственной значительности. И завернулась в гоголевскую шинель, как в тогу. Отныне и далее всякого пишущего по-русски серафимы, подкараулив где-нибудь на пустыре или Воробьевых горах, били по яйцам, выкручивали руки, рвали — по Далю — мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки зубам пищи, и шептали: восстань, виждь, внемли и жги!
В соответствии со вкусом эпохи и зловонием обстоятельств пророк может обнаружить себя где угодно — хоть гонящим из-под нар романы уркам. И это ничего не может изменить в его статусе: данное серафимом только серафимом и возьмется.
Язык времени — самый заблеванный и самого заблеванного, способ описания действительности — самый абсурдный, самая изысканная игрушечка и безделица — ничего не могут изменить в отношениях между шестикрылым, тоже в свою очередь посланным кем-то, и пишущим по-русски.
Можно думать лишь о вкусе слов, но невозможно при всем желании нарушить должностную инструкцию. Так природа все за человека придумала: он думает о сладостном трении гениталий, а получаются дети. Пророк думает о сладостном ворочании языка, а серафим вкладывает в кириллицу суть, смысл, дух, глубину. Писал о старухах, вываливающихся из окна, а получилось о конце света и единственной возможности спасения: полюбить, покаяться.
Но горизонтальная коммуникация невозможна и внутри одного языка. И говоря по-русски, невозможно понять друг друга. Юровский зачитывает в подвале приговор, а доктор Боткин не понимает. Или, к примеру, Пастернак и Хрущев. Или тот, кто вышел с плакатом против чеченской войны, и народ. А в набитом автобусе? А на опостылевшем супружеском ложе?
Как придать речи необходимую для понимания чистоту и ясность? И дело вовсе не в косноязычии. Косноязычие, начиная с «мама мыла раму» и через передовицу о врагах народа или «обзор тусовок» — к Бродскому, собственно, и есть единственно возможная форма существования языка. И изящная словесность — лишь одно из проявлений косноязычия.
Просто надо найти язык особой косности, на котором можно что-то объяснить. Сказать и быть понятым.
Правильность приема зависит от правильности кода. Но все в языке само по себе направлено на то, чтобы запутать код, усложнить понимание, язык изначально строит бесконечные границы, ограничения, вносит несусветную путаницу.
Поиск кода понимания приводит к новой косности. Границы сужаются, стены растут стремительно. Пространство понимания сворачивается и приводит к логическому завершению.
Для кого, собственно, пишутся «Поминки по Финнегану»? Роберт Вальзер проводит последние десятилетия записывая роман за романом все уменьшающимся почерком, уходя вместе с буквами в бесконечность.