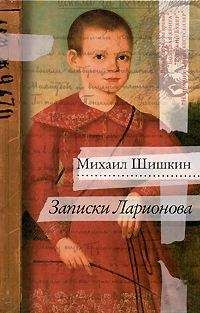Михаил Шишкин - Всех ожидает одна ночь. Записки Ларионова
— А меня в кого превратят боги?
— А сколько букв?
— Принеси что-нибудь попить.
Японка с детской коляской проходит мимо Нелькенмайстеров. По залам Кунстхауза то и дело раздается писк — если близко подойти к картине, срабатывает сигнализация. Ты смотришь на Джакометти, хранитель — на тебя.
— Я устала, давай посидим! Один раз мы зачем-то зашли в Ландесмузеум. Там никого, ни одной живой души. Вдруг откуда-то доносятся крики, смех, ворчанье. Идем туда, заглядываем в один зал, в другой, третий, а там старик-смотритель ходит мимо панцирей и разговаривает сам с собой. Нас увидел — покраснел, смутился. Помню, нам так неловко стало. Будто мы у него что-то украли. Ужас, как ноги ноют.
Нечаянный мавзолей над разоренной могилой Войцека. Перезахоронение поэта. «Что ж, господа, давайте откроем крышку». — «Эй, вам, кажется, плохо?» — «Нет-нет, ничего, не обращайте внимания». — «Да, вот это и есть смерть Дантона». — «Что вы хотите, прошло тридцать восемь лет». — «Господа, а вы уверены, что это он?»
— А как вы оказались в Испании?
— Так же, автостопом.
— А что вы там хотели?
— Ничего.
— А что вы там делали?
— Останавливались в каждом городке, гуляли. У неге были черные волосы, и они на солнце сразу превращались в печку. Там на каждом перекрестке фонтаны, колодцы, и я все время смачивала ему волосы. Он клал руку мне на живот и говорил: «Там уже, наверное, рыбка». Я отвечала: «Нет, еще моллюск». У меня было такое странное ощущение внутри, будто я точила карандаш, и вот эта грифельная пыль попала мне на язык, а я ее проглотила. Потом его укусила оса. В книжном магазинчике. Там было темно, прохладно, зашли, стали перебирать книги, и вдруг он как дернется. И откуда она взялась? Вот сюда в руку, прямо в вену. Все покраснело, распухло, а он смеется: «Ничего, в следующий раз я ее укушу! Теперь у каждого фонтана волосы смачивала и руку. Так распухла, что ремешок от часов не застегивался. Я ему надела их на правую.
— А что стало с ней потом?
— С кем?
— С этой Минной.
— Ничего особенного. Вышла замуж. Нарожала детей.
— Сколько у тебя было переломов?
— Шестнадцать. Дай руку. Вот здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь.
— А что он сказал тогда?
— Когда?
— Перед тем как все случилось.
— Да никто ничего не успел сказать.
— А до этого? Его последние слова?
— Не помню, мы ехали молча. Злые, все мокрые. Попали под сильный ливень. Да еще никто не хотел нас брать. А тут остановился трейлер, подобрал. Шофер, щуплый такой очкарик, молчал, и мы молчали. Подожди, вспомнила — он достал сигареты, а они промокли от дождя, и сказал: «Черт, промокли!»
— А потом?
— Потом только помню, как пришла в себя.
— В больнице?
— Нет, на дороге. Первое, что увидела, когда очнулась, — колеса крутились где-то высоко в небе, будто трейлер ехал по облакам. Еще чьи-то ботинки прямо перед носом. Затем свою руку, согнутую в каком-то не том месте. Знаешь, о чем была моя первая мысль? Должна была, наверное, подумать: «Я жива!» или «Что с ним?» А у меня в голове были те ботинки — как раз такие мы хотели купить, крепкие, солдатские. От мигалки всё пульсировало, было то бордовым, то фиолетовым, и колеса в небе, и ботинки, и рука.
— Что тебе приснилось?
— Что тебе приснилось?
— Не помню.
— Не помню.
— А через два года снова поехала туда. Сама не знаю зачем. Мне говорят: «Это было здесь». Дорога как дорога, ничего особенного. «Нет, — говорю, — вроде не похоже». Стали уверять: «Да что вы, именно здесь!» Здесь — так здесь, что я, спорить, что ли, буду. Думаю — куда положить цветы? А все стоят кругом, смотрят. Взяла и бросила их на асфальт, под колеса. Зашумели, мол, нельзя. Тот, который из полиции, что-то затараторил, сгреб их ногой на обочину. Потом поехала в ту самую больницу, нашла того самого врача. Он сказал: «Да-да, конечно, помню!» А я чувствую, ничего не помнит, просто не хочет меня расстраивать. Стал спрашивать, как я себя чувствую, как срослись кости. Я сказала: «Всё хорошо». И замолчали. А о чем говорить? Тут его позвали, он извинился, попросил подождать несколько минут. Сижу и думаю: какого черта, что я вообще здесь делаю? Только деньги на поездку потратила.
В трамвай, гремя ножными кандалами, взбирается кто-то в набедренной повязке, в кровоподтеках, бритая голова вся в царапинах. «Уважаемые дамы и господа! Я — сын Иисуса Христа, внук Божий. У меня для вас ужасная новость. Конец света уже вот-вот. Послушайте меня, покайтесь! Если успеете, дед вас простит!» Соскакивает, цепи звякают об асфальт. Двери закрываются. «Уважаемые пассажиры, у меня для вас новость еще ужасней: конца света не будет, а из-за аварии на вокзальной площади трамвай пойдет по одиннадцатому маршруту».
Спасенный язык
Должно было пройти немало времени после переезда с Пушки в кантон Цюрих, чтобы странное ощущение нереальности, карнавальности происходящего незаметно сменилось на робкое удивленное доверие, мол, действительно, все без обману: поезда не игрушечные, пейзаж не нарисован, люди не подсадные.
Сразу после смены декораций стал дописывать начатый в Москве роман, а ничего не получалось. Буквы, которые выводил там, здесь имеют совсем другую плотность. Роман получался о чем-то другом.
Границы, расстояние, воздух делают со словами чудеса. Очевидность, натуральность любого русского звукосочетания на Малой Дмитровке, где за окном шумит казино «Чехов», не пропускается сюда таможней. Лишенные там самостоятельного существования слова здесь будто приобретают вид на жительство, из средства становятся субъектом словесного права. Любое русское слово звучит здесь совсем не так и значит совсем не то. Так, наверно, в театре смысл любой сказанной фразы изменится, если поменять декорации.
На берегах Лиммата будто другая сила тяжести, всякое слово из русской чернильницы весит много больше, чем в стране-поставщике русской речи. То, что в России разлито, разбросано в атмосфере, в осадках и харях, в «Грушницкий — юнкер», в чеченской войне, в «Христос воскресе из мертвых» — здесь все сосредоточено в каждом слове, записанном кириллицей, упихано, утрамбовано в каждую Ы.
Исчезая с каждым днем все сильнее из реальности, отечество ищет себе новых носителей и находит таковых в закорючках экзотического алфавита. Россия со всем своим скарбом переселилась в шрифт. Буквы, как некогда квартиры, уплотнили для новых жильцов.
Приехав в первый раз в город Джойса, я направился сразу с вокзала на кладбище Флунтерн. Трамвай был полон до самой конечной. У кладбища все сошли и направились вместе со мной по дорожке между надгробиями в сторону, куда указывала стрелка «К Джеймсу Джойсу». Мне стало не по себе. Чем ближе мы подходили к Джойсовой могиле, тем многочисленнее становилась процессия. Место захоронения окружала уже плотная толпа — это в будний-то день и при отсутствии какого-либо юбилея.