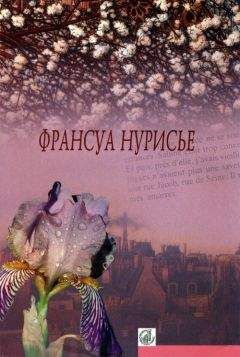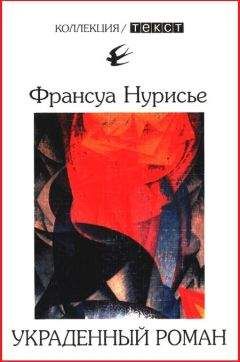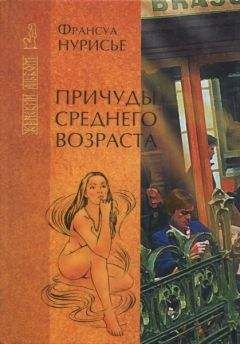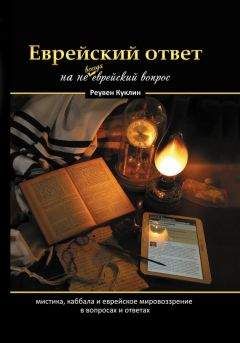Франсуа Нурисье - Бар эскадрильи
Таким образом в восемь десять Жос уже расстрелял все свои патроны. Он оставил своим собеседникам время завязать галстук, если они собирались идти куда-нибудь на ужин, или снять его, если они оставались дома. Он поставил телефон на столик и огляделся: Зюльма — он даже не заметил этого — ушла с дивана и, совершенно измученная, улеглась на кровати. Теперь Жосу стало жарко. Он снял плащ. Он полагал, что ведет себя достаточно сдержанно и что никаких откликов о его демаршах до Элизабет не докатится. Он всегда верил в деликатность людей, славившихся отсутствием оной, и никогда не жалел об этом. С Реми он, конечно, собирался поделиться информацией о том, что им сделано, чтобы избежать с его стороны любых поспешных акций, но так, чтобы это осталось между ними. Жос записал на бумаге имена двух отсутствующих, чтобы не забыть позвонить им на следующий день. Когда он встал, то испытал давно забытое ощущение сладостной ломоты, столь привычное когда-то, в пору его успешных кампаний. В течение многих лет он старался изгнать с улицы Жакоб употребление двух-трех модных словечек, закрепившихся в обиходе по воле шустрых радиожурналистов, а затем еще из-за алжирской войны, слов из уничижительной политической лексики, которыми, однако, стали обзывать и любые внезапные и страстные усилия, направленные на то, чтобы сделать известным какое-то имя, чтобы поделиться своим восторгом. «Промывание мозгов», «пиаровщина»: Жосу не нравилось, когда так называли риторические пассажи, в которых он набил себе руку, нагнетание аргументов, сравнений или очень деликатно завуалированных комплиментов, всю эту диалектику успеха, которую он умел — может быть, лучше, чем кто-либо другой? так, во всяком случае, говорили — поставить на службу своим авторам. «Посмотрим, потерял ли я или нет хватку», — сказал он себе. Один из секретов его успеха заключался в том, чтобы никогда не хвалить того, что ему не нравилось. (За такую работу он платил другим.) Он был уверен, что любой, кто пойдет на улицу Эстрапад, получит удовольствие от песен Элизабет, от причудливых стенаний сеньора Гаффы, от влажной свежести, которую взбивали подвешенные к потолку большие деревянные винты, а также от ощущения ночного путешествия в доверительной, почти семейной атмосфере, которую умел создавать в «Эскадрилье» толстяк Дельбек. Было достаточно просто послать туда людей, как когда-то было достаточно заставить их открыть книгу, всего лишь открыть ее: остальное следовало в качестве бесплатного приложения.
Было уже девять часов, когда Жос наконец оторвался от дивана. Проходя перед дверью спальни, он угадал в темноте два красных отблеска, которые зажег в глазах проснувшейся Зюльмы свет в коридоре. «Спокойно, — сказал он, — спокойно! Все идет хорошо…» — и он покашливанием изобразил нечто вроде улыбки, потому что фраза относилась как к собаке, так и к человеку. Спокойно? Надо было протянуть еще как минимум четыре часа: «Эскадрилья» усугубила его лунатизм. Он вынул из холодильника яблоко и бутылку воды, которые отнес в гостиную, захватив по пути графин с виски. Вставил в видеомагнитофон, не выбирая, одну из кассет «Замка», которые Элизабет подарила ему, деланно смеясь. Налил себе порцию алкоголя, необходимую и достаточную, чтобы полегче прожить еще один вечер, потушил ближайшую лампу и нажал на кнопки пульта. Кассета не была перемотана: на экране замелькали краски пикника у генералиссимуса Окампо. Жос поднес стакан к губам, не отрывая глаз от банановых рощ, обнаженных грудей, всякого рода цезальпиниевых деревьев, мелодраматических усов, прилепленных над губой мужчин. Он ускорил перемотку кадров и насладился моментом возникшей абстрактной какофонии. Алкоголь согрел ему уши, руки. Он поколебался: встать или не встать, чтобы налить себе еще стакан? В конце концов решил встать и выпил стоя глоток чистого виски, прежде чем добавить воды. Потом пошел в спальню, погладил и обнял Зюльму с немного театральной пылкостью, которую ему придало первое опьянение, вернулся в гостиную и опустился на диван. Вновь включил фильм, но убрал звук: Элизабет поднималась по ступенькам каменной лестницы. Камера приблизилась к ней, сняла лицо крупным планом, оставив за кадром волосы и шею. Еще более полные, чем обычно, губы открылись и продемонстрировали «зубы удачи». Жос подумал с некоторой беззаботностью, что он, конечно же, любил Элизабет, что он ее желал, что он зверски ревновал ее ко всем мужчинам, которых она клала к себе в постель, и что все это не имело никакого значения. Он усмехнулся, вспоминая, с каким оскорбленным достоинством он отверг подозрения г-жи Вокро. Сама же Элизабет прекрасно знала, как к этому относиться: игру вела она.
«Больше никогда, — громко сказал Жос, — больше никогда…» Собака на кровати вздрогнула и навострила уши. Пустой стакан тихо скатился на диван, и Жос, оперевшись затылком о бархатную подушку, погрузился в сон как раз в тот момент, когда Элизабет на экране раздевалась в спальне Негреско. А может, чуть позже, когда она пришла в больницу и расплакалась у изголовья одного очень молодого умирающего человека. Еще в течение получаса гнусности и мерзости «Замка» разворачивались, вспыхивая с новой силой, разноцветные и немые, перед спящим Жосом, губы которого поднимались в такт несколько хриплого дыхания. Потом фильм оборвался, послышался щелчок, и гостиная погрузилась в темноту.
* * *
В середине ноября Элизабет захотелось поменять свое сценическое платье, которое казалось ей слишком грустным. Ей помешали это сделать. Дельбек и Реми заставили ее просмотреть вырезки из газет и журналов, которые она отказывалась читать. Почти везде она была изображена в черном облегающем платье с закрытым воротом, с голыми плечами, держащей в руке красный шелковый платок, с которым она вышла на сцену в первый вечер случайно и который потом брала каждый вечер как некий фетиш.
— Теперь это ты.
Элизабет посмотрела притворно недовольным взглядом на собственный образ, который она сама придумала и закрепила, не думая об этом, а просто потому, что черное шло к цвету ее кожи, и потому, что ей всегда нравилась манера Греко, Барбары, больших темных ворон, которым она завидовала. «Понимаешь, — сказала она Реми, — я с четырнадцати лет больше всего боялась показаться дурнушкой…»
Потом, подумав, добавила: «А как Голубой Ангел на пластинке, не лучше?»
— На обложке пластинки фотографию поменяют! Посмотри, вот фото, которое выбрал Фаради. И он прав!
Это была фотография, снятая со вспышкой движущимся фотоаппаратом, когда она пела. У Элизабет мелькнуло в голове, что она перестала принадлежать себе. Будет ли она протестовать? Она заставила себя молчать и улыбаться с удивившей ее легкостью.
Дельбек «редко видел столько публикаций о новичке в твоем жанре». Комбинации Жоса и популярность, которой одаривает телевидение своих героев, дали основание для саркастических откликов (самых ценных), а удачно подобранные фотографии и лестная молва помогали каждый вечер заполнять «Эскадрилью». Один только Жос не выглядел удивленным. Он знал по опыту, как легко поместить под прожектор новичков, когда они принадлежат к нескольким сферам, к нескольким дисциплинам. Создателям репутаций нравятся разбрасывающиеся люди, люди, всюду сующие свой нос. Не говоря уже о красоте. Жос также знал, что раз брошенный снежный ком не замедлит вырасти в объеме; да и сам он продолжал звонить.
Между 15-м и 30-м ноября Элизабет закончила свое образование, начавшееся после выхода «Замка». Опыт «Эскадрильи» упрочил и дополнил опыт сериала: ей нравились признание и аплодисменты. Если в семнадцать лет она была так склонна провоцировать мужчин — бодлеровская «маленькая стерва», — то не для того ли, чтобы чувствовать, как при виде ее загораются глаза? Первый вечер стал для нее открытием. Едва воцарилась тишина, когда она встала неподвижно перед микрофоном, чувствуя на себе сотню взглядов, она сразу полюбила их любопытство, их алчность и даже их безразличие (чтобы сломать его) и чувствовала себя властительницей. Она продлила тишину, ожидание, к удивлению пианиста, настолько ей понравилось это ощущение: быть в центре света, быть яблочком мишени. И как только она запела, все волнение исчезло. Она контролировала свой голос, свои жесты; она была уверена, что если что-то произойдет, если внимание ослабнет, она сможет повернуть ситуацию в свою пользу. Когда раздались первые аплодисменты, ей понравились и их дурманящая агрессивность, и слегка вибрирующий стыд, который они в ней вызывали, как если бы она была голой на публике, но в то же время она чувствовала себя спокойной и расчетливой. Она сделала несколько шагов, передвинула микрофон, сказала пианисту несколько слов, попросив поменять местами две песни, и все это без особой необходимости, единственно ради удовольствия проверить непринужденность собственных движений и покорность зала. От песни к песне ее ощущения обострялись. Она была чувствительна к любому повышению и понижению напряжения, постигая, до какой степени вознаграждается качество, вознаграждается упорство в работе, постигая, что когда обладаешь умением, то можно найти выход из любого, даже самого трудного положения. В конце выступления, когда ей устроили своего рода овацию, она сумела, все еще наслаждаясь ею, быстро ее оборвать, чтобы исполнить на бис одну песню, единственную, ее любимую, и со сдержанной скромностью сойти со сцены и сесть за столик своих друзей. Она точно забыла о Жосе, который томился в ее уборной.