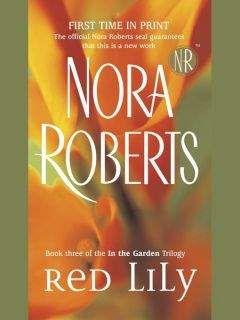Тан Тван Энг - Сад вечерних туманов
Моему визгу, казалось, конца не будет…
За секунду до того, как тьма заволокла все, я вдруг увидела, что гуляю по какому-то саду в Киото. А потом я потеряла сознание – и боль прошла.
Раны залечивались плохо и долго.
Я бредила, бесконечно мучаясь от боли.
Но не прошло и недели, как Фумио отправил меня работать обратно на кухню. Другие заключенные, как могли, ухаживали за мной. Д-р Каназава зашил мне обрубки пальцев. И тайком сунул мне ампулы с морфином из убывающего лагерного запаса, предназначенного строго для японцев. Я отстранялась от других узников, предпочитая забываться собственными мыслями. В своем сознании я создавала сад, то есть попросту извлекала из собственной памяти все, что помнила. Так я отвлекалась от того страшного, что произошло.
Уже много недель я не видела Юн Хонг, хотя и попросила д-ра Каназаву передать ей, что заболела малярией. Только она все равно узнала, что произошло. Фумио рассказал ей.
«Я убью его», – сказала она, когда я вполне поправилась, чтобы тайком навестить ее. Она протянула руки сквозь решетку, чтобы взять в них мои ладони, но я держала их плотно прижатыми к бокам.
«Дай мне посмотреть», – потребовала сестра.
Я подняла изуродованную руку, утянутую бинтами.
«О, Линь… – прошептала она. – Этот скот…»
«Уже заживает».
Я рассказала Юн Хонг о саде, в котором увидела себя всего за миг до того, как Фумио отрубил мне пальцы.
«Мы разобьем свой собственный сад, – сказала она. – И это будет место, откуда никто не сможет нас увезти».
Позже в тот вечер, лежа на нарах, я вновь подумала о том, что она сказала. «Если когда-нибудь у тебя, Линь, будет возможность бежать, я хочу, чтобы ты воспользовалась ею. Нет, не спорь. Обещай мне, что убежишь. Не думай. Не оглядывайся. Просто беги».
Я пообещала.
А что мне оставалось делать?
Малярия унесла отца Кампфера, и Фумио назначил меня переводчиком между японцами и заключенными. Однажды, года через два с половиной после того, как я попала в лагерь, заключенным приказали построить хижину. Когда та была готова, Фумио приказал мне явиться туда. С ним был еще один человек, которого я никогда раньше не видела. По тому почтению, какое выказывал ему Фумио, я поняла, что это какая-то важная шишка. Было ему немногим за сорок, волосы коротко стрижены, лицо худое и узкое. Одет он был в белые брюки и в белый китель со стоячим воротником. «И как это ему удается ни пятнышка не посадить на такую одежду в джунглях?» – подумала я. Звали его, сообщил он мне, Томинага Нобуру, и ему нужно, чтобы кто-нибудь переводил для него документы с английского на японский. «Еще так недавно этим занимался отец Кампфер», – посетовал он.
«Он до сих пор был бы жив, если б ваши люди дали ему нужное лекарство», – ответила я.
Рука Фумио махом пошла назад в движении, которое всем нам было знакомо. Томинага взглядом остановил его: «Прошу вас, капитан Фумио, оставьте нас».
Ладонь капитана сжалась в кулак, руки вытянулись по швам. Он низко поклонился Томинаге и вышел из хижины. Томинага указал мне на стул и пошел к походной печурке – приготовить воду для чая. Стол его в углу был завален схемами, документами и картами, со стены взирал на нас с портрета Хирохито в военной форме. На другой стене в рамке висел сделанный углем набросок.
«Сад»[227], – сказала я, припомнив, что рассказывала мне Юн Хонг – когда-то, целую жизнь назад.
«Сад сухих камней, да», – отозвался Томинага, глядя на меня и на мгновение забыв про чайник в своей руке.
«Где это?»
Он бросил взгляд на мою руку, все еще обмотанную окровавленной повязкой.
«Ты что-то знаешь про наши сады?»
«Жил когда-то в Малайе один японский садовник, на Камеронском нагорье, – сказала я. – Не знаю, там ли он еще».
Я задумалась на несколько секунд.
«Накамура… как-то так. Так его звали».
«Ты имеешь в виду Накамура Аритомо? Он был одним из садовников императора».
«Вы с ним встречались?» – ухватилась я за ниточку из прошлой жизни.
«Накамура-сэнсэй – в высшей степени уважаемый садовник, – ответил Томинага, садясь на плетеный стул напротив меня. – Откуда тебе про него известно?»
Мое колебание длилось всего какую-то долю секунды: «Искусство расположения камней всегда приводило меня в восторг».
«Что случилось?» – он указал на обрубки на моей руке.
Я не ответила, и лицо его отяжелело.
«Фумио», – произнес он.
Я поднесла чашку к лицу. Я не пробовала чая с тех самых пор, как попала в лагерь. Успела забыть, на что похож его запах. Закрыв глаза, я потерялась в его благоухании…
Томинага очень быстро понял, что моим познаниям в японском было далеко до уровня отца Кампфера, однако не отказался от меня, как я боялась. «Только теперь ты – подданная Японии, – заявил он, – и у тебя должно быть японское имя». И настоял, чтобы я звалась Кумомори[228]. Я решила, что поступлю мудрее, если не стану противиться, да и потом, если подумать, так оно в чем-то и хорошо: было легче сделать вид, будто содеянное мною было сделано кем-то другим – женщиной, не носившей моего имени.
Он любил говорить со мной о садоводстве, и я выяснила, что в свободное время он рисовал своим друзьям планы садов. Он постоянно изучал карты, делая пространные заметки. Обследовал шахту по пять-шесть раз в день. Мне приходилось следовать за ним вниз, в туннели, переводить его распоряжения заключенным. Охранники заранее криком предупреждали узников о его приближении. Все, даже охранники, обязаны были кланяться ему, глядя в землю. Я не бывала в шахте с тех пор, как стала работать в офицерской столовой. И была поражена размаху, с каким она разрослась, как разветвилась глубоко под землей! В стены пещер были вделаны металлические стеллажи, полностью заставленные стальными ящиками.
Сменяли друг друга месяцы. Приходили и уходили сезоны дождей. Я завидовала их свободе. Всякий раз, когда удавалось поговорить с Юн Хонг, я просила ее рассказать мне побольше про японские сады, с тем чтобы я могла воспользоваться этими познаниями в разговорах с Томинагой. Я попросила Томинагу освободить Юн Хонг, но он отказался: «Я не могу освободить одну и оставить остальных. Это неправильно».
«А правильно позволять, чтобы ее снова и снова насиловали? Мне все равно, правильно это или неправильно, Томинага-сан, – настаивала я, когда он ничего мне не ответил. – Я хочу только одного: чтобы моя сестра не страдала».
Я думала; а не случалось ли и ему брать ее силой?..
И, даже зная, что сестра никогда не простила бы мне этого, заявила: