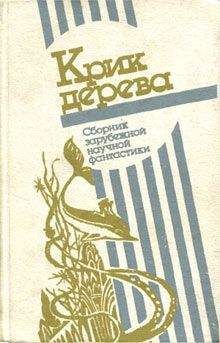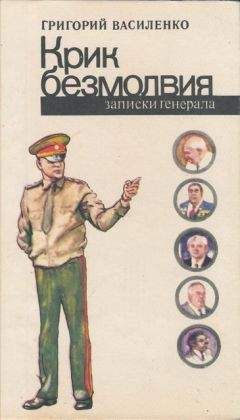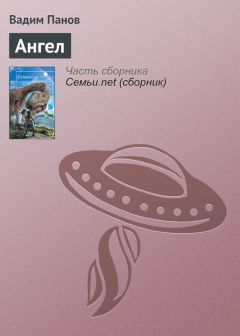Григорий Ряжский - Дом образцового содержания
Отец отмахнулся:
– Ладно, все, дочь! Жрать давайте! – и развернулся к Стефану. – Поможешь?
– Разумеется, Семен Львович, – ответил Стефан тому, кто неотличимо походил на Джокера, пытаясь сказать это так, чтобы стало наконец ясно, кто здесь кто: и по разговору, и по поступкам.
– Тогда давай, – Мирский вывалил содержимое кастрюли на стол и стал перебирать мясо в кусках. – Бэкъярд имеется с барбекюшницей? – спросил он Стефана, как бы признав теперь его за хозяина помещения. Тот не растерялся.
– Обязан быть, – ответил уверенно. – Тут у всех это есть, тут вам не Россия, тут Америка.
– Шикарно, – обрадовался Семен Львович. – Тогда на решеточку его, на решеточку…
– А что едим? – так, для поддержания нового диалога, решил на всякий случай поинтересоваться Стефан. – Что за филей такой?
– Так филей нормальный, – развел руками академик, прервав на секунду раскладывание кусков на решетке. – Парной, как в тот раз. – Он ткнул пальцем в кусок, что был с краю. – Этот вот от ягодички, а тот вон, – он так же ткнул его пальцем, – срезка с бедер. Ну и малость разного всякого: от бочка, с рук мягкое, от животика низ, где самое нежное. Пять минут и готово. Спички есть тут у вас?
– Стоп! – резко сказал Стефан так, что и отец и дочь удивленно посмотрели на него. – Стоп! Это что ж, это людское, что ли? От людей вы мясо есть собираетесь?
– Ну да, – удивленно ответил Мирский. – А от кого? От блядей, что ли? Потому ночью и готовим, а не днем. Днем охрана застукает и за цугундер возьмет, десяточку только так за это дело накинут. По уголовке уже, не по политике – пятьдесят восьмая здесь не катит, – он развел руками, всем своим видом демонстрируя понимание предстоящего процесса. – А так покушаем спокойненько, пока не рассвело, а потом пусть себе жмура к перекличке тянут. Кто, что? Нет концов – съели. А кости закопали! – Он весело рассмеялся, то-о-о-оненьким голоском. Тонким и отвратительным.
– Ах вы с-с-суки поганые… – с тихой угрозой в голосе прошипел Стефан. – Волки позорные, псы смердячие… Как же земля вас, таких уродов, носит порченых. А еще архитекторы, вашу мать, туда-сюда коллекционеры, гита-а-а-ры – в рот вас всех.
Кубистическая Роза опустилась обратно в кресло, подтянула к себе инструмент и, обхватив четырехпалой рукой гриф, принялась заново перебирать струны.
– Не будет он, пап, – бросила она отцу. – На него не делай.
– А я и не собирался на него, – ответил Мирский и повернулся к Стефану лицом. И тогда Стефан сообразил наконец, что никакой этот Мирский не Мирский, а натурально Джокер. Тотчас тот и подтвердил последнее соображение, не заставив себя ждать. Он подхватил разделочный нож и двинул на Стефана, приговаривая:
– Ты думал, падло, я тебя своим мясом кормить буду, да? Я сейчас сам твоего испробую, корешок. А ты покамест завещание подмалюй – счет, что без меня в Чейз Манхэттен откупорил, на общак перекинешь. Ясно?
– Так, наверно, чаял проскочить? – не прекращая извлекать из гитары звуки, поинтересовалась Роза Семеновна и взяла барре. – На халяву?
– Вовсе нет, – попытался вывернуться Стефан, не выпуская из виду разделочный нож, – просто я…
– Кончай его, отец, – распорядилась женщина с гитарой, и Стефану наконец стало окончательно ясно, кто тут главный. – Все, это приказ! А то мне тут от лобстера, понимаешь, подыхать, а ему, значит, фарт свой перед кунцевскими демонстрировать? Так на деле получается?
– Не-е-е-ет… – протянул Стефан, понимая, что ничто его уже не спасет. – Погоди, Джокер… э-э-э… Семен Львович… э-э-э… Пабло…
Однако было поздно. Мирский взмахнул ножом и прищурился, выцеливая для удара точку чуть левее центра Стефановой груди.
– Не-е-е-т!!! – заорал Стефан. – Не-е-е-т!!! – и открыл глаза.
Звонил телефон и, видно, довольно давно. Стефан снял трубку.
– Мерина подавать, Стефан Стефанович? – с заранее извиняющейся интонацией в голосе осведомился брайтонский хлопец.
Стефан глянул на часы – швейцарские, не луковичные и без музыки. Окончательно расставшись с дурковатым сном, выдохнул освобожденно, улыбнулся краем рта, затем чуть прикинул и отозвался уже вполне по деловому:
– Через сорок минут подавай. Прокатимся…
Поездкой за океан Томский остался доволен, но главным образом не в связи с открытым на свое имя счетом в американском банке. Деньги были приятные, но не волнующие. Так же как не взволновала и сама Америка – понял, что ни места там ему нет, ни делать там по большому счету нечего на фоне нынешнего российского беспредела: не выдерживала американская земля сравнения с родной, как ни глянь, профит выходил в пользу России. Ну и главное, наконец, наиглавнейшее: то самое, что удалось вызнать почти случайным образом от умника-консультанта с Мэдисон-авеню.
И это подхлестнуло больше всего остального, так что настроение вполне имелось. Если забыть, разумеется, о сне, о нехорошем сне, – том самом, бруклинском, последнем из тех, что случился в Америке…
Вначале была столица. Однажды в ней появилась Зина. Зина родила Сару от Семена Львовича и уехала из столицы. Сара выросла, вернулась в столицу и родила Гельку от Федора Александровича. Затем почти выросла и Гелька и, малость недозрев до положенного срока, нарушив укоренившуюся в семье традицию образовывать живот в городе-герое Москве, родила двойню, Ринатика и Петро, неотличимых на глаз и ощупь близнецов.
А потом, оставив детей на попечении Сары, Гелька покинула Житомир и тоже уехала в столицу. В столицу сопредельного с независимой Украиной государства. Но это было уже в девяносто втором, когда Ринатику и Петрушке стукнуло по шесть годков и пора было подумать о школе, но легче жить, чтоб пропитать их и одеть, все не становилось.
Первый день в Москве Гелька надеялась. Второй день – крепилась. На третий – почти все про столицу поняла. А на четвертый – встала на проститучью «точку», место работы нестоличных девчонок на столичной улице Тверской, что подпирает окончанием своим сам Кремль. Или началом – смотря откуда верней брать.
Что же до самой Гельки со всей ее безнадегой и бедой, то, родившись в семидесятом, в доме барачного типа на окраине Житомира и прожив еще двадцать два неприкаянных года, она и думать не помышляла, что однажды, в тот самый день, когда, взревев от отчаяния и решившись все же встать под московский Телеграф, будет в промежутке между вечером и ночью куплена сроком до утра заслуженным художником России, лауреатом Государственной премии СССР, бесповоротно нетрезвым и бесконечно неприкаянным по жизни скульптором Федором Александровичем Керенским, имевшим в тот самый час до чрезвычайности конкретный план – вернуться к себе в Трехпрудный, прихватив по пути любую живую человеческую душу. Или любое незанятое тело – как выйдет…