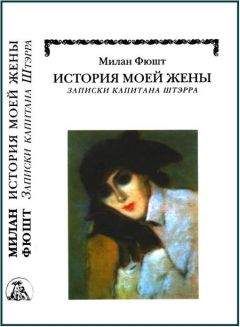Аксель Сандемусе - Оборотень
В ресторане было уже полно обедающих. Время от времени Эрлинг скользил взглядом по залу, но, увидев кого-нибудь из знакомых, тут же отводил глаза.
— На самом деле я вам завидую, — сказал он. — Хотя мне хотелось бы назвать это по-другому.
Яспер с удивлением повернулся к нему и засмеялся:
— Что я слышу? Кто из нас кому завидует, если вообще мы завидуем друг другу? Я просто хотел уточнить кое-какие детали твоей биографии, потому что, мне кажется, они могут причинить кое-кому вред. Кое-какие детали, и ничего больше. Но если бы я и стал кому-то завидовать, то только тебе. Я могу с ходу перечислить множество преимуществ, какие ты имеешь перед нами. Прежде всего — твой дар, позволяющий тебе не карабкаться вверх по той лестнице, где каждый старается спихнуть другого вниз. Неужели ты и в самом деле веришь моей маске, которую я вынужден носить, чтобы сохранить свое положение? Разве ты не живешь в мире, где нет конкуренции? Разве ты не сам его выбрал? Разве ты не можешь в любой день поехать в любое другое место? Разве ты не достиг большего, чем мечтал? Разве тебе не безразлично, кто какой пост займет в Государственном совете? Разве ты не живешь в счастливом неведении о том, кто стал членом муниципального совета, а кто выбыл оттуда, и разве тебе надо предпринимать в связи с этим разные хитрые ходы? Разве тебе неизвестно, что никто не может занять твое место и что самому тебе не нужно чужое? Разве ты не можешь позволить себе роскошь желать всем тех благ, какие они могут и хотят получить, потому что при этом сам ты ничего не лишишься? Разве ты не любимец богов, подаривших тебе профессию, которая не заставляет тебя желать ужесточения некоторых законов или, насколько позволяет мораль, причинять ближним неприятности в деловой сфере? Разве тебе приходилось разорять и выбрасывать на улицу кого-нибудь, кого и так преследуют несчастья? Разве ты не счастливчик, потому что ничто не заставит тебя появиться с милой улыбкой в доме твоих недругов или принять их у себя тогда, когда тебе хочется послать их к черту? Разве ты не можешь позволить себе выпивать и говорить о своих делах только с тем, с кем тебе хочется? Разве свобода твоих действий ограничивается чем-либо, кроме уголовного кодекса, нарушение которого не принесет тебе ни малейшей выгоды? Ты даже не знаешь, что такое регулярная работа! Как давно ты выбросил к черту будильник? Никого на белом свете не согреет твой приход, и никто на белом свете не оплачет твой уход! Я уж не говорю о том, что ты выкинул после войны! Да разве бы тебе это удалось, если б судьба или Господь Бог не сунули тебе в руки твою охранную грамоту? Больше я ничего не скажу, хотя мог бы сказать еще очень многое, но, говоря о тебе, я говорю и о себе самом, а кому хочется выворачивать себя наизнанку больше, чем необходимо…
Яспер вдруг обнаружил, что возле их столика стоит какой-то человек и смотрит на Эрлинга. Воспользовавшись паузой, этот человек спросил:
— Разрешите сесть за ваш столик?
— Нет! — отрезал Эрлинг и снова поднял глаза на Яспера.
Они даже не взглянули на этого человека, который, помедлив мгновение, отошел от них.
— Кто это? — спросил Яспер.
— А черт его знает! Так ты сказал?…
— Я тут много чего наговорил, — перебил его Яспер. — Как думаешь, кто еще позволил бы себе ответить так, как ты ответил сейчас этому человеку? Мне, во всяком случае, потребовалось бы много выпить, чтобы я мог позволить себе такое. А потом я бы всю ночь не спал, гадая, кто этот человек. Несмотря на свою досаду, я бы встал и любезно сказал ему что-нибудь в таком роде: Мне очень жаль, но я не припомню… А вот ты…
— Должен тебя огорчить, это был особый случай, — сказал Эрлинг. — Этот человек прекрасно понимал, что вмешался в разговор, который занимал нас обоих. Я только естественно реагировал на невежливость, какой никогда не позволяю себе по отношению к другим.
Яспер вздохнул:
— Это ничего не меняет в том, что я сказал. Мне приходится мириться со многим, чего я сам никогда не допустил бы по отношению к другим. Речь идет о том, что ты неуязвим и знаешь об этом. Ты знаешь, что этот человек не сможет навредить тебе, независимо от того, кто он и что ему придет в голову. Сейчас он сидит на своем прежнем месте, смотрит на тебя испепеляющим взглядом и думает, что ему под силу убить миф.
— Еще один импресарио, — заметил Эрлинг.
Яспер достал большую сигару, которая очень шла к его крупной, словно изваянной из камня голове.
— Ты был в Венхауге на Рождество? — спросил он.
Вот оно, подумал Эрлинг. Он обежал глазами зал — что-то там привлекло его внимание — и, не отрывая глаз, равнодушно ответил:
— Конечно, я все праздники провожу там. Мы даже подумываем, не следует ли мне вообще поселиться в старом доме.
Яспер промолчал, но Эрлинг чувствовал, как друг искоса наблюдает за ним. Наконец Яспер шевельнулся и, подняв купюру, подал знак официанту.
— Пожалуй, нам пора.
Они стояли на морозе и ждали заказанное такси. Большая сигара во рту Яспера была нацелена на Национальный театр. Дым смешивался с его дыханием и облаком поднимался в морозном воздухе.
— Послушай, Яспер, мы друзья, и мне не хочется ни в чем подозревать тебя. Но тебе не следовало спрашивать о Венхауге.
— Я понимаю, — тут же отозвался Яспер. — Но, признаюсь, у меня были на то причины, которые прежде всего касаются меня самого. Думаю, тебе ясно, что мы с Верой иногда говорим о вас. Женщины больше, чем мужчины, обращают внимание друг на друга, на поведение других женщин и проецируют это на себя и на своих мужей. Это вроде такой игры. И бог знает, до чего они могут доиграться. Хозяйка Венхауга стала понятием нарицательным, я бы сказал так, и тут очень большую роль играет тот факт, что речь идет о наших добрых знакомых. Не знаю, как на это смотрят мужчины. Полагаю, что с завистью. Женщины же воспринимают все так, будто им подали сигнал. И в этом сигнале звучит что-то, чего они боятся… и ждут.
Он помолчал, по-прежнему глядя на Национальный театр, потом продолжал:
— Ты должен понять, рядом с тобой я все равно что неопытный мальчик… Впрочем, когда мы с тобой беседуем, ты становишься тридцатипятилетним, как я. Может, ты не знал, но мы, тридцатипятилетние, смотрим на тебя как на своего ровесника, хотя и двадцатилетние тоже считают тебя своим. Это твоя заслуга. Не знаю, удостаивался ли кто-нибудь до тебя такой чести. Но поскольку тебе все-таки около шестидесяти, ты опасен. А ты сам знаешь, каким образом тебе удается проникать в чужой возраст? Когда это у тебя началось? Что в тебе происходит в это время? По-моему, ты сам не очень понимаешь, как действует этот механизм, — ты человек любого возраста или без возраста вообще. Меня не так интересует то, что ты проповедуешь, как ты сам. Может, мне нужен твой совет, или не знаю уж, как это назвать, совет в чем-то, чего я не могу выразить словами.
Он говорил, не поворачивая головы и не вынимая изо рта сигары. Несмотря на жгучий мороз, Эрлингу было жарко, и он был смущен.
— Наверное, это наше такси, — сказал Яспер. — Не бойся, я больше никогда не заговорю об этом… но, поверь, как бы невнятно и непонятно я ни говорил сегодня, мне хотелось высветить что-то в себе самом. Ты знаешь, я любопытный, но я умею держать себя в руках. Мне нужно было получить кое-какие сведения, и я действовал примерно теми же методами, к каким прибегаю, когда узнаю то, что необходимо мне для работы. У меня все хорошо, чтобы не сказать больше. Но иногда я удивляюсь…
По дороге к Западному вокзалу, куда они заезжали за чемоданом Эрлинга, и потом в Сместад они обменялись лишь несколькими словами о морозе и гололеде.
Жена каменщика Педерсена
— Эрлинг, расскажи нам что-нибудь про любовь, — попросила Вера, уютно устроившись в кресле перед горящим камином. — Что-нибудь поинтересней. Так, чтобы мурашки по коже. Как в настоящей жизни.
— Но сначала позвольте мне сказать два слова, — вмешался Яспер. — Я много думал об этом. Последний раз сегодня. По-моему, единственное, что по-настоящему занимает людей, — это секс. Те, что говорят, будто вообще о нем не думают, как раз больше всего им и озабочены. Словом, я хочу сказать, что секс играет очень большую роль в нашей жизни. На разных деловых встречах я делаю вид, что прилежно записываю интересующие меня данные, но в то же время слежу, чтобы никто не увидел, сколько голых девушек, я нарисовал за это время. Однажды я нарисовал девушку, которую порют розгами. Речь у нас шла о легированных сталях. Мне кажется, что секс подстерегает нас за любым кустом или пляшет вокруг него. Мама, власть и пища, разве это не одно и то же?
— Да, бывают периоды, и даже довольно длительные, когда мужчина не думает ни о чем, кроме секса, — согласился Эрлинг. — Женщинам проще, женщина сама и есть сексуальность. К сожалению, она не всегда сознает это. Тигр не говорит себе каждую минуту, что он тигр. Женщина — это персонифицированная сексуальность, а мужчина — мальчик на побегушках у этой сексуальности.