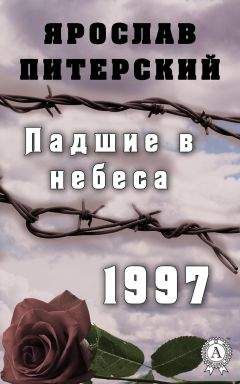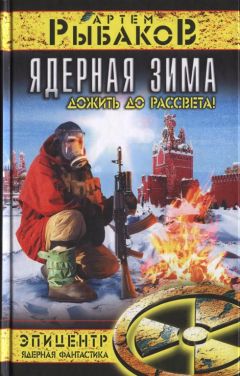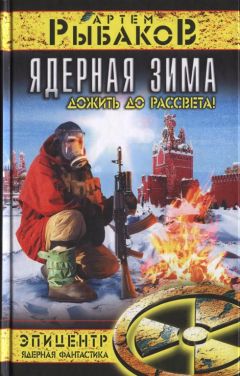Ярослав Питерский - Падшие в небеса
— Да зачем жить, уважать, если — все кончено?! Все! Как же, вы, не понимаете Петр Иванович? Все! Если нас не расстреляли, то это не значит, что мы выживем! Там, в тайге, куда нас отправят — выжить очень трудно! Очень! Все! Да и зачем выживать? Зачем? Что бы потом вернутся к ним — к этим свиньям, которые нас посадили? И ходить с ними по одним улицам, дышать с ними одним кислородом и молчать! А главное бояться! Бояться, что бы тебя вновь не отравили по этапу! Вновь не закинули в камеру! Вновь не разбил табуретку на голове! — грустно сказал Павел.
— Эй, Паша! А с чего ты взял, что это будет, так, всегда? А?
— А, как еще?
— Хм, вот, я вижу, ты глупый еще. Молодой. Я тоже, так думал. Вернее, почти, так же. Когда, я, закончил, юнкерское училище, я думал, что все будет, так всегда. Я, буду молод. Барышни будут мне улыбаться. А власть в нашей державе — всегда будет принадлежать Романовым! И, что в итоге?! А все изменилось и как?! Я состарился. Дамы мне уже давно не улыбаются, а Романовых расстреляли большевики. И, что это говорит? А вот что — ничего в этом мире не вечно! Ничего! Даже то, что кажется вечным и нерушимым!
— Что вы имеете в виду? — испуганно удивился Павел. Оболенский наклонился к нему, к самому уху и страстно, и истерично зашептал:
— Эх, молодой человек! В этом мире все, когда-нибудь, заканчивается!!! Даже самая безграничная власть! Даже самая кровавая диктатура! Ты, что думаешь — Сталин будет править вечно?!! Павел опешил. Он был в растерянности. Оболенский говорил, какие-то действительно очевидные истины. Те, истины — которые не могут быть оспорены. Но он, говорил это — так вызывающе! Так откровенно! И в тоже время — так просто. По-житейски.
— А вы, думаете, нет? — на всякий случай спросил Клюфт шепотом.
— Нет, конечно! Знаешь, что сильнее диктатуры Сталина? А?!!
— Что?! — еще больше испугался Павел. — Что может быть сильней?!
— Как, что?! Смерть!!! Он просто умрет. И все. Когда-нибудь — умрет. И не важно как — радостно уснув и не проснувшись, или поперхнётся косточкой от винограда. Но он — умрет. От старости, от астмы, или от туберкулеза, или от сердечного приступа. Он такой же человек, как и мы! Смертный человек! Он не Бог! Каким себе представляешь его ты, или вон те, или еще, несколько десятков миллионов, моих, несчастных соотечественников! Он — обычный, смертный человек! И так же, как и мы, сгниет, когда ни будь! Превратится в перегной! Земле то, ей, все равно! Все равно! А червям и подавно — им все равно кого есть! Великого вождя и учителя всех времен и народов, или бывшего штабс-капитана Семеновского полка!
— Да, что вы такое говорите?! — Павлу стало страшно.
Слушать такое?! Петр Иванович хоть и шептал это очень тихо, но Павлу казалось, что к его словам прислушиваются многие арестанты соседи. И они, они обязательно доложат конвою об этих речах старика! Доложат и тогда, тогда!.. А, что тогда?!.. Что еще может быть хуже?… Они и так наказаны. Павел обернулся и посмотрел по сторонам. И Клюфт не ошибся. Их действительно внимательно слушал, тот коренастый незнакомец — мужчина, спасший его на пироне. Он слушал и улыбался, как это, показалось в полумраке, Павлу. Тут-тук! Тук-тук! — колеса перестукивали на стыках. Тут — тук! Тук — тук! — стучало сердце.
— А он, ведь, прав, молодой человек. Простите, я не знаю, как вас зовут, — сказал незнакомец и кивнул на Оболенского. Павел насторожился. А вдруг это и есть провокатор. Тайный агент. Сотрудник НКВД — переодетый в одежду арестанта? А вдруг это «сексот» только и ждет, что бы потом настрочить рапорт и «уличить» еще парочку человек, которые «желают смерти товарищу Сталину!»
— Да вы не бойтесь. Нет. Я не тайный шпион! Нет! Да смысла сейчас нашим доблестным органам нет — выявлять еще более злачных врагов. Нет смысла, — вздохнул мужчина. Павел молчал. Он рассматривал в полумраке его лицо. И тут, он вспомнил, где видел этого человека!!! Это был загадочный пациент тюремного лазарета — Борис Николаевич! Человек, который приходил в камеру лишь провести ночь. Человек, с которым даже охрана вела себя уважительно. Нет, это определенно он — мужчина лет сорока пяти, с волевым лицом, шрамом на правой щеке, узкими усиками и черными, как смоль волосами.
— Да, я вас тоже узнал. Там, на перроне. Вы лежали в лазарете. У койки, что ближе к окну. А у меня стояла у двери. Так ведь? Я Борис Николаевич, — весело сказал незнакомец и погладил Павла по плечу.
— Да, я узнал вас, здравствуйте.
— О, я вижу, вы знакомы? — вклинился в разговор Оболенский. До этого момента старик тоже внимательно разглядывал Бориса Николаевича — как бы прицениваясь к новому соседу.
— А, как ваша фамилия? — подозрительно спросил Клюфт?
— Да, какая тебе разница, Павел — какая, у него фамилия? Он тебя спас! — засмеялся Оболенский.
— Нет, почему же. Я понимаю, почему он меня спрашивает, — весело сказал Борис Николаевич. — Моя фамилия Фельдман. Слышали? Павел напрягся. Фамилия ему ничего не напомнила. Лишь, какое-то смутное недоверие и предчувствие чего-то очень неприятного и в тоже время важного. На уровне подсознания. Вроде как, фамилию — Фельдман, когда-то он слышал часто. Но когда? Давно, в той, жизни.
— Вы ворошите память? — ухмыльнулся Борис Николаевич. — Значит, это действительно, было давно — коль вам ничего не сказала фамилия Фельдман. Ну, может, это и к лучшему. Оболенский тоже задумался. Он вдруг стал суровым. Клюфт заметил это и приподнявшись с нар, виновато сказал:
— Большое спасибо, Борис Николаевич. Вам за помощь. Но, мне, нечем даже вас отблагодарить. Нечем. Фельдман пожал плечами и мазнул рукой:
— А мне ничего и не надо. Я только вот, хотел, сделать добро. И все. Я так, хотел, сделать добро. Кстати, ваш друг — этот товарищ, он прав, зло — оно ведь не безгранично. Когда-то силы кончатся и у зла. И тогда наступит справедливость.
Вот у справедливости, нет, временного формата. Нет, временного ограничения. Нет. Она будет существовать вечно — пока, существует человечество. И все, кто творят беззаконие — они потом будут наказаны. Оболенский сверкнул гневным взглядом на нового знакомого. Он промолчал, но Клюфт видел — старик с ненавистью буравит глазами Фельдмана. Хотя молчит. Но ему, так хочется, что-то сказать, этому человеку. Причем, что-то злое и неприятное. Повисла пауза. Вагон трясло на стыках. Наверно поезд въехал на полустанок. Сквозь щели и доски уныло прорывались вялые всполохи придорожных фонарей. Колеса стучали. То быстро, то медленно. В этом металлическом стуке слышалось нечто зловещее. Секунды или километры? Рельсы жизни. Рельсы — по которым, катится их судьба… Судьба этих людей — нахохлившихся на деревянных нарах, прибитых по стенам вагона. Людей, затаивших надежду, где-то глубоко, в глубине, своего сознания. Там, под фуфайками и шубами, гимнастерками, и френчами. Под рубашками и свитерами…
Двадцать вторая глава
Надежда! Какое странное слово. Надежда… Вялая мечта об освобождении и спокойной жизни. Но наступит ли она? Сейчас большинство этих людей терзала эта мысль. Наступит ли она жизнь? Настоящая жизнь! Та, прежняя жизнь… Свобода, свобода и покой. Любимые добрые лица… — сейчас это казалось нереальным. Их жизнь вообще казалась — какой-то страшной сказкой. Страшным сном. Тук-тук… Бледные и почти восковые лица. Негромкие разговоры где-то в углу. Слышался Кашель. Запах табака, дров и грязного человеческого тела. Павел покосился на Фельдмана. И вздохнув, тихо спросил:
— А вы, Борис Николаевич, по какой статье проходили и какой срок получили?
— Тут, все по пятьдесят восьмой. Я получил десять лет без права переписки.
— Да. Не так уж и плохо. Тут, некоторые, по пятнадцать получили,… - грустно добавил Павел. Фельдман кивнул в ответ, но ничего не ответил. За него, сказал Оболенский. Он зло процедил сквозь зубы:
— А мне, показалось, вам как-то, мало дали! — старик сверкнул ненавистным взглядом на Бориса Николаевича.
— Вы, я вижу, меня узнали, Вернее, поняли — кто я,… - печально ухмыльнулся Фельдман. — Ну, что ж, как говорится — пусть будет так. Клюфт насторожился. Он сел, свесив ноги на нарах, и дернул на рукав Петра Ивановича:
— Вы про что? А? Про что? Что я такое не знаю? Оболенский тяжело вздохнул и как-то неровно погладил Клюфта по плечу:
— Если Паша, это тот человек — который я думаю. То нам Паша, не нужно сидеть, в его обществе. Не нужно. Нам вообще от него подальше надо сидеть. А еще лучше — сказать, вон, всем, тут, в вагоне. Кто едет с нами вместе! — тихо, но зло прошептал Петр Иванович. Павел впился взглядом в Фельдмана. Борис Николаевич грустно улыбался. Клюфт рассмотрел его гримасу в полумраке. Это была улыбка человека обреченного и в тоже время получившего, какое-то облегчение. Словно преступнику перед казнью дали выпить вина и выкурить папиросу.
— Борис Николаевич. Петр Иванович? Что происходит? Что за загадки? Спросил Павел. — Вы знакомы? Вы знаете друг друга? Может, вы друг другу, сделали что-то плохое? Фельдман не обращая внимания на вопрос Клюфта, сказал ровным голосом Оболенскому: