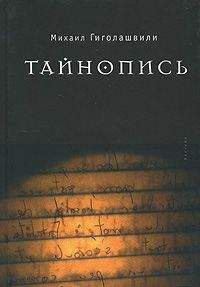Толмач - Гиголашвили Михаил
– Моцарт – австриец, между прочим, – заметил я.
– Великий Моцарт? Австриец? – она смерила меня презрительно-агрессивным взглядом. – Что вы понимаете в австрийцах?! Это то же самое, что немцы. Вот вы можете мне объяснить разницу между немцами и австрийцами?
– Такая же, как между русскими и украинцами.
Сусик хотела что-то ответить, но я, видя, что лингво-диспут грозит затянуться, подошел к Ацуби на критически близкое расстояние и, ощущая свежий запах чистых волос и бодрого дезодоранта, спросил, с кем сегодня работать и надо ли снимать отпечатки пальцев, если во Франции уже снимали.
– Работать – со Шнайдером. А насчет отпечатков… Спросите у нее, был ли ею получен отказ от французов? – Услышав, что да, был, вот он, тут, в сумке, Ацуби покачала головой: – Тогда и фото снимать не надо было… В общем, Шнайдер разберется. Если что – потом успеем. Идите. Странная женщина. В чем ее проблема?
– Не знаю. Пусть Шнайдер разбирается. А как насчет кофе с кругленькими булочками? – нагло уставился я на ее остренький бюст.
Она зарделась, однако тут же бойко ответила:
– Насчет булочек – не знаю, но на кофе времени нет.
Мы шли по коридору. Сусик с приглушенными стонами ковыляла рядом. Волосы черны и густы. На щеках, под бугристым носом, на подбородке – кустики щетинок. Охая и с трудом переставляя опухшие ноги, она говорила что-то о немецкой философии, большим поклонником которой был ее папа, в то время как мама предпочитала марксизм и работала парторгом на рыбзаводе.
– Вы знаете, я выросла в атмосфере творческих регалий. О, эти золотые дни, где они, где?.. Не успела проснуться – а папа с мамой уже из-за Барайтынского ссорятся… Только позавтракаешь – тут же и танцы: встаньте, детки, встаньте в круг, вас обслужит добрый жук… Подождите, он Барайтынский или Бородайский? – вдруг замерла она, схватив меня за руку и подозрительно вглядываясь в меня мерцающими глазами.
Я поежился, вырвал руку и ускорил шаг:
– Поэт?.. Баратынский.
– Ах, да-да, как я могла забыть, что-то барать… Бородайский – это композитор, такой… в халате и с красным носом… Сам пахал и сеял, как птица небесная… Вот. Не успели помириться, сели обедать – новый диспут о Мандельштампе. Днем они всегда почему-то из-за «Живого» ссорились… Тарелки летят, весело!.. Из избы ссоры выносят… За ужином – схватки из-за Родона, ну, который тоже скульптор был, как папа… Папа его всегда очень ругал, не знаю за что, но очень-очень ругал… Это не скульптор, говорил, а недоразумение… Ночью – споры о Сталине и Ленине. Может быть, потому я и вышла такая талантливая, что жила среди творческих регат и разных висмутов… – опять остановившись, она доверительно наклонилась ко мне, обдавая запахом крепкого пота. – А как вы думаете? В чем главная причина?
– А вы сами в какой области трудитесь? – с опаской отстранился я.
Сусик непонимающе посмотрела на меня:
– А вы что, не знаете?.. Странно… Я думала, об этом всем известно. Я во всех областях тружусь. Во мне сил на десятерых! Я хочу тут, на этой земле, отработать свое право умереть… Вот дайте мне театр – и вы увидите мою классику. Я урожденный режиссер! В «Чайке», например, дядя Ваня всех убивает из своего ружья, а потом мажет трупы вишневым вареньем – чем не громкий финал?.. Там же не написано, что он не убивает?.. Ну и все. Буревестник революции, пингвины… Свое сердце Данко сдает в банко… Или, например, у Тургенева в «Беженском луге», когда беженцы скачут по лугам, по ночам?.. Это надо решать на сегодняшнем материале – не на конях, а на танках. И не скачут, а едут, прямо на сцену. Пришли и ушли обратно… Где Макар телят пас… Пришел, увидел, ушел… Или вот опера. Это вовсе не негр придушил свою жену, а она сама задушилась шарфом. Я даже приказала, чтобы у куклы был такой же длинный-длинный шарф, как у Айдаборы Душкан – параллели угадываете?
– Так вы в кукольном театре работали?..
– И в кукольном тоже, – назидательно посмотрела она в упор. – Мой папа всегда говорил, что кукла и Кук – одного корня. Так же, как и Китай и кит. Китай велик, как кит… Такая обоюдная харя-кришна… Когда милиция забирала моего папу на пятнадцать суток, он обычно кричал: «Вы все – по национальности мещане, вас я ненавижу!..» Ох, что-то нехорошо мне… Давит… Пелена какая-то… – Она расстегнула сталинское пальто, под которым обнаружилось что-то вроде темной потертой гимнастерки, натянутой на огромные арбузные груди.
– Может, лучше к врачу? Или пальто снимите…
– Нет, ничего, надо чашку испить до конца… А пальто снять не могу, потому что сегодня не в форме – ну, вы понимаете… – лукаво посмотрела она на меня совиными глазами. – Куда теперь?..
Дверь в кабинет Шнайдера открыта. Он сидит молодцевато, не касаясь спинки кресла. Смотрит в монитор.
– Гутен таг, дорогой хер! – сказала Сусик жеманно.
Шнайдер внимательно взглянул на нее, на меня, вздохнул:
– Guten Tag! – А у меня тише спросил: – Владеет немецким?
– Не знаю. Говорит, что владеет всеми европейскими языками.
– А, понятно, – сразу как-то успокоился Шнайдер. – Всеми языками владеет, все знает, всюду была…
– И все умеет. Режиссер.
– Вот оно что. Ста-ни-слав-ский! – по слогам выговорил Шнайдер, вежливо скользя взглядом по Сусик, которая с грохотом и шумом усаживалась за стол.
Сев, она с усилием расстегнула огромные черепаховые пуговицы пальто и с видимым омерзением произнесла:
– Что, он знает Стасика?.. Стасик не для вас, немцев. Немцы перевоплощаться не умеют, слишком рациональны, их ум их изнасиловал. Папа всегда говорил: «Сусик, заруби себе на шее: немцы не могут без ума что-то делать. Они – жертвы ума. А ум разрушает пластику». Где, скажите мне, немецкие скульпторы?.. Где немецкие художники?.. – вдруг громко вскричала она, и ее совиные брови зашевелились. – Где великие актеры-фашисты? В немцах нет живности, одно истуканство!
– Что такое, в чем дело? – боязливо поинтересовался Шнайдер, услышав печально знакомое слово. – Нас ругает?
– Нет, о немецких скульпторах рассуждает. Вам не жарко? Снимите пальто, – сказал я ей.
– Нет, что вы, мне холодно, – ответила она, хотя ее покатый шишкастый лоб был покрыт потом. – Мне все время холодно. И в голове гул.
«Собрат по несчастью», – проникся я к ней добрым чувством.
Шнайдер открыл папку, поискал паспорт.
– Где ваш паспорт, позвольте спросить?
– Пропал. Улетел! Улетучился и воспарился! – И Сусик сделала плавное движение рукой, чуть не задев меня широким рукавом, от которого шел запах нафталина.
– Что значит «улетел»?.. Утерян?.. Когда, при каких обстоятельствах?
– А вот во Франции, на вокзале.
– Вы что же, были во Франции? С какой целью?
– Сдавалась в плен Наполеону, – усмехнулась Сусик, подняв вверх пятерни. На правом запястье обнажился нитяной браслет, на левом – громоздкие часы на железном ремешке.
– И какой результат во Франции?
– Вот, отказ. – И она победно выложила из сумки мятые бумаги.
Я подал их Шнайдеру. Он пересмотрел их, отобрал скрепленные вместе листы, потом позвонил и попросил Зигги подняться:
– Он хорошо знает французский, пусть посмотрит, что это. Ладно. А пока пусть представится, расскажет о себе…
Сусик, услышав эту просьбу, надменно приосанилась:
– Что ему надо? Внутренняя жизнь? Или внешняя? У художника их две. Нет, даже четыре!.. Ну да, каждой – по паре. Две – днем, перед едой. Две – ночью, перед сном, – понесло ее в какую-то фармацевтику.
– Он хочет биографию.
– Извольте, милостивый государь… Ахмедова Сусанна Азадовна, родилась в Волгограде…
– Бывший Сталинград, – с внутренним злорадством пояснил я.
Шнайдер кисло кивнул:
– Знаю. Где немцы в котел попали. Там сейчас икры много.
– Икру ложками ели. Осетрину – пудами. А балык – тоннами, – подтвердила она энергичным кивком и согнула правую руку в локте. – Потому я такая сильная!