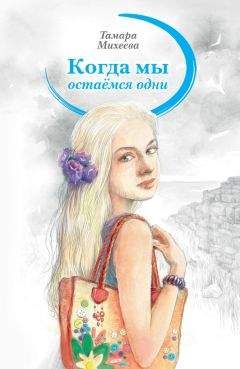Юрий Азаров - Новый свет
— А шо вин робыв? — спросил Злыдень.
— Он катил камень. Вот тот камень, на котором он сейчас сидит. Катил на гору.
— А для чего?
— Его наказали за то, что он однажды взбунтовался.
— А кто наказал? — спросил Злыдень.
— Боги наказали, — ответил Волков.
— А куда вин катил цей камень?
— На вершину горы, — ответил Волков.
— Ну и шо? Чого ж вин не докатив?
— А как только он подбирался к вершине, так камень съезжал снова вниз. И так десятки лет. Всю жизнь.
— Ничего себе! — сказал Злыдень. — А для чего это?!
— Потом поймешь, — ответил Волков. — Так вот, мне Сизиф и говорит: «У тебя будет радость маленьких побед. Ты будешь совершать перевороты, придумывать реформы, тебе будут рукоплескать, ты будешь получать прекрасное жалованье, у тебя будет все, но за это в твоей душе поселится сознание того, что твоя работа бессмысленна. Ты будешь кричать об идеалах, о счастье, о самых совершенных формах правления, а твое сознание, когда ты будешь один на один со своей совестью, будет тебе говорить, что все, что ты делаешь, — бессмыслица! Абсурд!»
Я слушал Волкова. Я понимал, куда он клонит. Я знал, что он так или иначе подведет меня к тому, что во мне сидит Сизиф. Он развил свою теорию и решил меня обвинять.
— Я знаю, к чему ты клонишь, — сказал я и начертил на полу два круга. На одном я написал: «Преобразование обстоятельств, социальная революция», а на другом: «Духовное совершенствование». В первом круге я еще написал: «Режим, условия жизни, культура», а во втором: «Свобода, счастье и истинность „я“».
— Можешь дальше не писать! — перебил меня Волков. — Идея кузнечика мне известна. У вас оба круга совпадают и логически все оправдывается.
— Не об этом я сейчас, — сказал я. — Хотим мы этого или не хотим, а наше «я» постоянно находится как бы в раздвоении — одна часть направлена на внешние условия, у каждого из нас свой камень, свои Сизифовы муки, а другая часть — это наша душа. Все беды идут оттого, что в этих обоих кругах плотское, материальное, значит, на первом месте. Мы жизнь свою строим по логике даже не Сизифа, а по логике камня, который катит Сизиф. Мы изучаем процессы перекатывания камня. Нас интересует биологическая и физическая природа камня и даже преддуховное его состояние. И нас не интересует сам Сизиф. Ощущаю ли я себя Сизифом? Вот вопрос, который ты поставил передо мной. Отвечу: и да и нет! Опыт в Новом Свете в чем-то удался, а в чем-то не удался. Но если у меня спросят, что я намерен делать дальше, я отвечу — повторить опыт Нового Света. Повторять до тех пор, пока через повторяемость не осядет в человеческой культуре квинтэссенция всего того наилучшего, что сделано нами в этом сегодняшнем опыте.
— Значит, опять идея кузнечика? — съехидничал Волков.
— А шо це за идея кузнечика? — спросил Злыдень.
— Це така идея, — ответил шепотом Александр Иванович, — по которой каждый для себя свий шматок хлеба до-бывае…
— Это не совсем так, — перебил я Александра Ивановича. — Вопрос о том, является ли человек хозяином и творцом своей истинности, своей свободы, — это главный вопрос.
— Як це? — спросил Злыдень.
— И моя жизнь, и моя судьба, и мое счастье всецело зависят от меня самого — вот в чем дело, — пояснил я.
— И что же вы скажете применительно к самому себе? — спросил Волков. — Почему бы вам сейчас не приостановить расформирование школы в Новом Свете — мы кузнецы и дух наш молод!
— Еще не известно, кто в этой ситуации побеждает, — сказал я. — Мы или марафоновы и росомахи.
За дверью раздались голоса. Это Шаров вбежал со Смолой.
— Вот где он прохлаждается. Детворы немае в корпусах, — кричал Шаров. — Посбегали, проклятые! Вот что оставили. Я прочел записку: «Уходим искать правду. Вернемся, когда добьемся восстановления школы будущего…»
— Прекрасные плоды нашего воспитания, — сказал Волков. В моей душе затеплилась надежда.
— Это ты их подбил? — глядя в глаза мне, сказал Шаров.
— Нет, — ответил я.
И вспомнил разговоры с детьми:
— Вы многое наобещали нам, а закрепить не смогли…
— Что я, по-вашему, должен делать теперь?
— Драться, как вы нас учили. Драться до конца. До победы.
— Сейчас, ребятки, бесполезно драться.
— А мы будем драться!
— Как же вы будете драться?
— Найдем способ.
И не знал я тогда, что на следующую ночь Никольников обратился к детям с пламенной речью:
— Дети, я, как первообраз Истины, Добра и Красоты, призываю к решительным действиям. Мы отправляемся к большим властям. Что ты скажешь на это, товарищ Злыдень?
Саша Злыдень вспомнил слова отца: «Последний человек, кто кляузными делами занимается», — и слова Довгополова вспомнил: «Не лезь, Гришка, у це дило, а то буде як у тридь-цять третьему годи…» — и сказал:
— А может, не надо?
— А ты, Славка, что скажешь?
— Я как все.
— Идем, — решительно сказал Никольников. — Первая группа выходит через главный вход, а вторая через садовый, третья через огородный лаз…
У властей дети проявили решительность.
— Не сдвинемся, пока не восстановите школу! Надо сказать, что и власти отнеслись по-доброму к просьбе детворы: пообещали немедленно выслать новую комиссию. Когда Шаров узнал об этом, он сказал:
— Теперь точно штаны поснимають и по заднице надають.
А потом случилось нечто такое, что привело и Смолу и Дятла в дикий гнев. Комиссия предложила и Никольникову, и Де-ревянко, и Саше Злыдню, и многим другим влиятельным ребятам очень выгодные места: художественные и музыкальные училища, подготовительные школы при университетах — и дети с радостью приняли эти предложения.
— А как же школа будущего? — спрашивал, едва не плача, Смола.
— А все равно же расформировывается, — ответил Витя. Он взахлеб стал рассказывать о том, какими возможностями располагает школа при столичном университете: библиотеки, общение, спорт, заграничные поездки.
— Может быть, ты и прав, — тихо сказал Смола, сочувственно поглядывая на Волкова. Впервые за последнее время он посмотрел на своего антипода не только дружелюбно, но и с любовью. Больше того, он подошел к Волкову и сказал: — Прости меня. Я знаю, ты собираешься повеситься, так вот, перед смертью своей прости меня.
— Я уже не собираюсь вешаться, — гневно ответил Волков. — Поэтому нет смысла тебя прощать. Сам вешайся.
13
— Вас гукають, — это ко мне обратился Злыдень. — Новая комиссия приехала. Таки буде тут памятник старины. И новый слух покатился по школе будущего.
— Чулы? Все назад повернуть: и церкву восстановять, и пруды з лебедями будуть, а уси здания расприходують, — это Петровна говорила Злыдню.
— И шо нам робить с цим памятником старины? — спрашивал Злыдень у Каменюки.
— Да ничего не робыть. Стоять буде. И со всього свиту будут йихать и йихать, дывиться, дывиться, пока не надойисть. Тут и гостиница будет, и буфет. Хочь пива бочкового попьем.
К беседующим подошел молодой человек в роговых очках и в кожаной тужурке.
— Трактора у вас тут нет? — спросил он. — Я исполняющий обязанности директора музея. Машина застряла на мосту.
— Каменюка, — сказал завхоз, подавая руку.
— Где? — спросил человек в тужурке.
— Это у меня фамилия такая, — ответил Каменюка. — Шо, и штаты привезли или просто так приехали?
— А как же — и штаты привез, и сам приехал…
— Не, на таки ставки никто не пиде робыть, — сказал Каменюка, возвращая лист со штатным расписанием. — А шо це за музей буде?
— Памятник отечественного зодчества восемнадцатого века. Посмотрите, каким он был. — И человек раскрыл альбом.
— А старое название села восстановять? — спросил Злыдень.
Молодой человек улыбнулся:
— Нет смысла. Верхние Злыдни — это, по-моему, такую тоску нагоняет. А вот Новый Свет плюс памятник старины — звучит современно. Эти все лачуги уберем, — добавил человек в тужурке, показывая на фехтовальный зал, мастерские и прочие пристройки.
— Неужели и церкву построять, и часовню, и озеро расчистить, это скильки ж матерьялу надо, скильки грошей?
— Средства уже отпущены, — ответил новый исполняющий. — Так есть трактор?
— Глянуть надо, — ответил Каменюка и, никого не приглашая, засеменил к мосточку.
— Значит, ничего не изменится, — сказал Злыдень, поправляя кошки на ремне.
— Усе останется неизменным, тильки этой чертовой дитворы не буде, — это Иван Давыдович сказал.
— И знаете, хлопци, давайте выпьемо, у мене и цыбулынка е, — это Сашко предложил. — Старина так старина, хай ий черт!
ЭПИЛОГ
В который раз я перелистываю свои записки. Думаю: откуда столько прекрасной слепоты и самозабвения? Что заставило так яростно рядиться в доспехи: плащи, аксельбанты, шпаги? Внутренняя неприязнь к схоластике, к хитросплетениям разума, спекулятивной относительности норм и истин? Можно ли было уйти от попыток сознания приобщиться к языку эпохи, к способам тогдашнего мышления, захлестнувшим человеческий Разум философскими курьезами, мифотворчеством, живыми и мертвыми парадоксами нашего воображения, освобождавшегося от догм, от примитивного здравого смысла, от пошлости? Можно ли было остаться безразличным к человеческим исканиям в этом сложном мире, где так жестоко обезличилось человечество и возможна его гибель? Гибель от войн и катастроф. Гибель от мирного атома. Гибель от духовного обнищания и физического самоуничтожения.