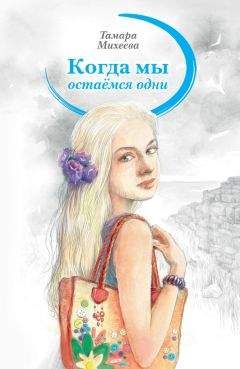Юрий Азаров - Новый свет
— Ты же не улитка! — прокричал Коля. — Потом, я буду умирать за идею. А это совсем другое, чем умирать за одного человека.
— Я не хотела бы умирать просто за идею. Я могла бы умереть за то, чтоб спасти всех.
— Это и есть главная идея. Спасти всю школу будущего. Чтобы она была такой, какой мы видели ее в своих сказках, в своих мечтах и снах.
И Коля тут же вспомнил другую картину, другие слова, прозвучавшие когда-то. Он тогда убирал в классе, а Дятел и Попов, как всегда, спорили.
— Есть что-то безнравственное во включении детей в подвижничество.
— И здесь явное противоречие, — отвечал Дятел. — Мы учим детей подвигу. Зовем их к подвигу. Готовим их всех истинным воспитанием к подвижничеству. На примерах учим их умирать, отдавая свою жизнь за благое дело. Посмотрите, что такое детская литература. На две трети эта литература о том, как беззаветно и мужественно надо умирать.
— Так это и есть та великая ненормальность, какая существует в мире.
— Но пока мир устроен так, что злые силы угрожают нормальной жизни, угрожают добру, и будет существовать необходимость в подвиге. И все же подвижничество, связанное со смертью, не для детей.
И тогда думал Колька Почечкин: «Почему же взрослые считают, что только для них сделаны в этой жизни подвиги? Почему?» И теперь эта мысль пришла ему в голову. И немедленно появилась другая мысль: «А вдруг я спалюсь, а все равно школа будущего погибнет. И снова кто-нибудь возьмет да скажет: „А зря Колька полез в огонь. Дурак. Мы вот все живем, а его нет и никогда не будет“». Впрочем, Коля эту мысль тут же прогнал, потому что, прежде чем войти в огонь, ему нужно было еще заколоть Белль-Ланкастерского, а потом произнести убийственные слова в адрес Марафоновой.
— Вы думаете, Клавдия Степановна, что мы ничего не знаем про вас. Все знаем! Знаем, почему вы отчислили из нашей школы Волкова Валентина Антоновича. И теперь собираетесь отчислить Попова, Дятла и Смолу. Только не дадим вам этого сделать!
— Прости меня, Коля, — станет, конечно, выкручиваться Марафонова. — Но ты же собирался закалывать Белль-Ланкастерского. Что же ты медлишь, деточка?
— И здесь вы ведете себя как предательница. Посмотрите на этого жалкого труса. Разве он достоин, чтобы его закололи шпагой? Его надо просто высечь хворостиной. Увести подсудимого! — приказал Коля, и Саша Злыдень с Касьяном и Ребровым увели инспектора. — Ну а теперь, друзья мои, давайте прощаться! — обратился он к погрустневшим товарищам. — Ты, Маша, со Славкой дружи. Он, может быть, и поумнеет, если будет тебя слушаться. А так человек он неплохой. Работящий. Все у вас будет хорошо в этой жизни. Не забывайте меня, люди добрые. — У Коли даже слезы навернулись на глаза. И Эльба заскулила еще сильнее.
И Коля, может быть, и шагнул бы в костер, если бы не Петровна. Впрочем, он ждал какого-нибудь чуда. Ждал даже тогда, когда до костра оставалось всего лишь полтора шага и двадцать сантиметров. А чудо не замедлило явиться в лице старой Петровны, которая прибежала вдруг на костровую площадку с ведром в руке. Обидно, конечно, было Коле, что появилась Петровна, а не Маша в образе мадонны, но что поделаешь, жизнь есть жизнь. Наверное, именно это и хотела сказать необразованная, но очень добрая Петровна, у которой уж точно с богиней Красоты полное взаимопонимание. Петровна плеснула прямо в костер из полной цыбарки отвратительно пахнущую, но, должно быть, волшебную жидкость, отчего костер вмиг превратился в туманный пепел, и Коле Почечкину пришлось ступить на мягкую серую золу. А Петровна кричала:
— Да деж це слыхано, щоб жива людына в огонь лизла. От чортова дитвора! Таке придумае. А ну марш видциля, а то я зараз!..
Коля обрадовался такому концу. Обрадовался еще и потому, что окружающие одобрили весь этот прекрасный финал. Даже Владимир Петрович Попов сказал:
— Что ж, мальчик доказал свою готовность защищать великую идею до самого последнего конца.
И оттого что так отчетливо послышался ему голос Владимира Петровича, решимости еще больше прибавилось в душе. Он побежал на настоящую сегодняшнюю территорию интерната. Вбежал на крыльцо административного корпуса, едва не сшиб с ног Александра Ивановича, беседовавшего со Смолой, и влетел в кабинет Шарова, где продолжалось расследование всех недостатков развития школы будущего.
Очевидно, вид у Коли был страшный. Все замерли, глядя на Золотого мальчика.
— Вы не имели права так поступать! — сказал он, обращаясь к Марафоновой.
— Что с тобой, Коля? — удивлялась Клавдия Степановна.
— Вы очень нехороший человек! — сказал Коля.
— За что же такая неблагодарность, Коленька? — ласково сказал Белль-Ланкастерский, пытаясь погладить мальчика по головке. — Мяса столько съел. Буженину съел. А теперь ругаешься.
— И вы тоже нехороший человек. Уезжайте отсюда! Все уезжайте!
Последние слова привели в замешательство присутствующих. Быстрее всех сообразил, как надо поступить, Шаров. Он сказал:
— Коля, никто не давал тебе право так разговаривать с нашими дорогими гостями. Успокойся. — Шаров подошел к Почечкину. Потрогал головку. — О, да у тебя жар. А ну гукнить врача, — крикнул он в окно. А сам снял с себя пиджак и укрыл им Колю.
11
Весть об окончательном решении превратить школу будущего в памятник старины пришла совсем неожиданно, в тот самый момент, когда Марафонова подводила итоги окончательные: шпаги настоящие и символические были сложены рядом с колючей проволокой, микроскопом и конским волосом, все было перевязано незаприходованными веревками, и инспектор в суровости своей предлагала мне бумагу подписать, где черным по белому было написано, что такие оприходованные методы, как игра, воспитание на интересе, производительный труд, сверхизобилие и сверхактивность, подлежат списанию, а потому уничтожению через сожжение. И весь мой реквизит — мои плащи и шпаги, аксельбанты и ботфорты, все здесь перечислено, — тоже подлежит публичной кремации.
— Символы нельзя уничтожить, — пытался возразить я сквозь слезы.
— Уничтожим, если надо, — будто отвечала мне Марафонова.
В душе моей всегда жила надежда. Надежда моей Мечты. Мне всегда, в самые трудные закрутки, верилось, что вот вдруг придет чудо, придет — и новый целебный жар растопится вокруг. И потом, много лет спустя, я тоже верил в чудо, и это чудо сбывалось, оно приходило иногда с опозданием, но обязательно приходило. И тут я держал ручечку шариковую и все тянул с подписочкой актика. А Марафонова будто чувствовала, что я жду чего-то, сказала:
— Не надейтесь на чудо. Все уже закончено. И Белль-Ланкастерский, такой ласковый, меня под руку взял, к уговариванию приступил назойливо:
— Какой смысл… Подпишите, а потом пройдет время, все забудется, тем более никаких взысканий вам не обещано. Считаю, что это самый лучший вариант для вас. Кстати, мы вам новое место с повышением подыскали. Во всяком случае, вы здесь зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.
Ах, где моя символическая шпага! Где моя сокровенность надежды, чтобы все запутанное разом, одним ударом разрушить, и чтобы новый свет полился, и чтобы новое пришествие состоялось. Но у меня сил не было сейчас, я это знал, не было, чтобы сопротивляться. И не было сил, чтобы ручечку поднять и росчерком пера поставить маленький крестик на моей Мечте.
— Ну, не тяните же время, — нетерпеливо пробубнил Белль-Ланкастерский.
12
И я взял ручечку. И в это мгновение Манечка вбежала в комнату.
— Волков приехал, — сказала она и покраснела. — Говорит, повесится на конюшне, если расформируют школу. Каменкжа собирается его связать…
Я побежал на конюшню.
Волков сидел со Злыднем и спокойно о чем-то разговаривал. На коленях у него действительно была веревка. Увидев меня, Волков привстал, подал руку. Он был взволнован. От него пахло вином. Но никакой ненормальности я в нем не приметил. А когда он заговорил, я сразу проникся к нему уважением: здорово у него ложились фразы, точеные.
— Ты помнишь, старик? — сказал, обращаясь ко мне. — Я сказочку про Сизифа сочинял. Сейчас я дал в ней другое толкование. Так вот, однажды мой Сизиф сел на камушек, похлопал меня по плечу и сказал: «Новая вариация моей судьбы несколько иная, чем та, какую стали развивать позднейшие философы. Мир не абсурден. В моем труде заключен великий смысл. Мой трагический героизм не бесцелен и бесплоден. Мое отчаяние — это отчаяние человека, победившего свою судьбу. Один из интерпретаторов моей трагедии так и заявил: „Назвать отчаяние своим именем — значит победить его“. Посмотрите на мои мышцы, ноги и руки. Всмотритесь в мое упорство, ловкость и силу. Произвожу ли я впечатление отчаявшегося? Я, владеющий левой и правой рукой, я, сильнее и терпеливее которого нет в мире? Заметьте, я всякий раз терплю поражение и всякий раз начинаю все сызнова. В этом я вижу смысл человеческого бытия. Я подаю пример подвижничества. Я не стремлюсь к обладанию. Мое самоотречение не отрицает моего чувства красоты. Я любуюсь природой, наслаждаюсь мимолетным общением с людьми, которые дают мне кров и еду, чтобы я нес свой крест, чтобы я честно исполнял свой долг, чтобы я смог выполнять эту бессмысленную работу».