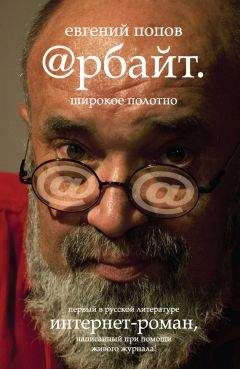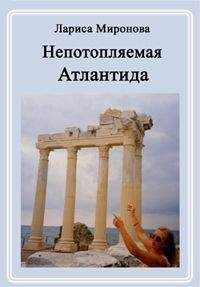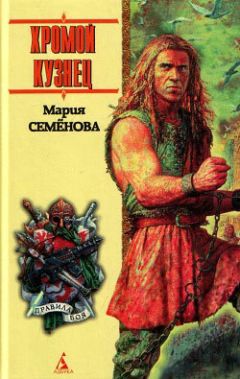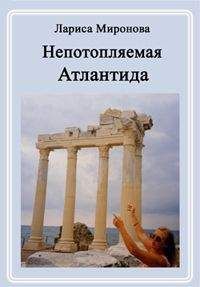Лариса Миронова - На арфах ангелы играли (сборник)
Вот и похолодело нутро, когда Акимка её за локоть прихватил. – «На шыбельницу пападеш з-за жыдоуки паганай…» – тоскливо подумала она, снова запоздало пожалев, что впустила в ту злополучную ночь в свой дом Дору.
Однажды ей показалось, что немец что-то заподозрил. Проходя через кухню, он внезапно остановился и стал прислушиваться. Голова его была наклонена набок. Рот приоткрыт. Вот сейчас закричит, схватит её и детей, погонит на площадь. И там их повесят…
Однако немец, так постояв, словно прислушиваясь к чему-то, тряхнул головой и пошел в сени, так ничего и не сказав.
Ночью она хотела выгнать Дору. Открыла подпол, позвала её, та высунулась из груды бульбы, вся пепрепачканная в земле, серая от пребывания в потемках и страха, одними губами спросила:
– Что, тетечка? Что?
В мелких кучеряшках, некогда медные, давно нечесаные волосы её сбились в грязные пейсы, глаза, дикие, в огромных темных полукружьях теней, смотрели испуганно и жалко…
– Вылазь! – скомандовала Мария, опасливо поглядывая на занавеску, не проснулся ли немец?
– Хочешь нас выгнать? Да, Мария? Выгнать хочешь? Не, не пойду! И Дора забилась обратно в кучу бульбы.
Тут, откинув занавеску, из залы вышел заспанный немец. Мария обомлела. Постоялец, наклонившись над подпольем, строго спросил:
– Кто там есть?
– Хто? А нихто! – растерянно ответила Мария. – Радня мая, Са Старага Сяла. Пляменица с дитем. Нельга выходить. Хворыя яны. Тиф у их. Паночак, тиф!
Немец усмехнулся и погрозил Марии пальцем, однако отошел подальше.
– Юда? – спросил он, указывая на открытое подполье.
– Тиф… Тиф… Паночак, Тиф!
Мария быстро закрыла подпол, закрыла отверстие половиком и поставила сверху табуретку. Усевшись на неё, всё продолжала повторять – тиф… тиф… тиф…
Немец снова ткнул пальцем в подполье и сказал:
– Юда! Юда! Юда! Паф-паф-паф! – и, засмеявшись, пошел спать.
…Вот эту жуткую сцену мог бы подсмотреть Акимка, если бы его собственный сынишка ему в этом не помешал. Однако догадался, что дело здесь какое-то имеется. Но мысли его были о другом – не партизаны ли к Марии наведываются? Броня переводчицей при комендатуре. На квартире чин стоит. Информация так и так имеется.
А когда вдруг исчез немец, не явившись в комендатуру с утра, он быстро смекнул, кого надо спрашивать. Посыльным из комендатуры она сказала, что постоялец ушел рано, куда – не сказался.
Немец же исчез с белого света навеки. Ночью, когда храп с присвистом стал ровным, Мария, обмотав полотенцем топор, обухом стукнула постояльца по темени. Крови почти не было. Храп тотчас же прекратился. Убедившись, что немец мертв, Мария позвала Дору из подпола, вместе оттащили труп вниз и закопали в яму с песком. Яма была приготовлена для зимнего хранения моркови и бураков и уходила вглубь на два метра. В песке даже летом было прохладно. Сейчас же на дне ямы был настоящий холод. Поверх песка они насыпали горку бульбы.
Мария долго мыла полы, потом собрала постельное бельё, чехол с дивана и половики, замочила всё это в двух корытах и в большом ведре, щедро насыпав туда хлорки и сухой горчицы, и на рассвете начала большую стирку. Закончив работу, всё стираное развесила на чердаке, полы в доме протерла крутым отваром полыни и мяты – всякий вредный дух отбивает…
К обеду пришли два немца с овчарками, привел их Акимка. Мария села на лавку, положила руки на колени и молча ждала решения своей судьбы. Страху в ней не было. Не было и никаких других чувств. Была только усталость во всем теле. Хотелось спать.
Собаки закружили над половицей с кольцом, один из патрульных дернул кольцо, поднял половицу, заглянул вниз. Оттуда пошел сырой тяжелый дух.
– Паночки! Закрыйте масницу, Хрыстом Богам прашу! Пляменица у мяне там. Тиф у яе, тиф! – спокойно уже сказала Мария и широко зевнула. Патрульные отошли к двери, Акимка же зло сказал:
– Племянница, говоришь? Посмотрим, проверим, что за племянница такая. Зайду потом.
Они ушли, так ничего и не обнаружив.
Ночью Мария хотела спустить еду в подпол, но Дора на её зов не отозвалась. Тогда она сама туда спустилась и, увидав пленницу подполья лежащей на мешках, потрогала её лоб, лицо и поняла, что случилось недоброе – Дора крепко захворала. И в самом деле – не тиф ли накликала?
А что, как помрет здесь, в подполье?
Ребенок же, на его счастье, почти всё время спал.
Мария вытащила Дору из подпола, поместила её в клеть, где хранились съестные припасы и стоял деревянный ящик с отрубями для скотины, остригла спутанные в колту волосы больной, повязала ей голову чистой хустой, низко, на лоб, как это делают бабы в жатву, накрыла зипуном, перекрестила и стала думать, что вот и пришел их последний день. Если это и в самом деле тиф, то живыми никто из них не останется.
Однако признаков тифа не было, возможно, это была нервная горячка и длительное беспамятство от испуга и общего истощения. Ребенка Мария тоже перетащила из подпола – на печку, теперь уже, когда всё почти открылось, для спасения оставалось твердо стоять на том, что это её «пляменица с дитём». И будь что будет.
Мальчику, как и Доре, она повязала голову платком. Все-таки не так заметно, что чернявый да кудрявый. Хотя Иван её ведь тоже не рыжий-белобрысый…
Так прошло две недели, Дора стала поправляться и, очнувшись и придя в память, сама сбежала из клети – обратно, в надежный подпол.
6
Мария только по хозяйству всё приделала, как в сенях стукнула дверь. Она вышла – там стояла, вся запыхавшаяся. Ганна.
– Канец света прыйшоу! Ой-ё-ёй! Усим нам канец! – заплакала она, закрывая лицо руками.
– Ничога ня зразуметь, кажи толкам! – сказала Мария.
– На плошчы. Ак раз перад райсаюзам. Шыбелицу паставили. Кагось вешать будуть, каты паганючыя!
– Да ня рави ты! – сказала Мария, перекрастилась и тоже заплакала.
На другой день, с утра, все население Ветки согнали на бывшую Красную площадь, теперь она называлась – «площадь Свободы».
При страшном молчании огромной понурой толпы двое солдат вывели мужчину и вздернули на виселицу. Дул сильный западный ветер – влажный и резкий. Тело качалось на ветру, веревка терлась о перекладину, извлекая из неё ужасный, дерущий душу скрип, руки казнен – ного казались непомерно велики и были противоестественно вывернуты. На груди его висела табличка. Мария наклонилась к самому уху стоявшей с ней девушки и сказала: «Што там, на шыи… У Василя? Што там написана?» – «За дапамогу партызанам», – так же тихо ответила девушка и ещё что-то зашептала Марии на ухо.
По всей Ветке допрашивали людей – куда девался немец? На Василя показали какие-то злыдни, заподозрив в больном, а потому непризывном и не ушедшем в Красную армию, мужичке врага.
Пропавшего немца больше не искали – считали, что его действительно похитили партизаны как «языка», «для звестки»…
Мария брела домой сама не своя. Ноги едва слушались, в голове стоял шум и гул, а в мыслях было одно: «Закатавали Василя! Закатавали! И мяне закатують, гады паганючыя… Усё зз-а жыдоуки гэтай…»
Однако обзывать Дору привычно – «паганай» почему-то не хотелось. Внезапно мысли её потекли совсем по иному руслу. Перед глазами стояло жалкое Дорино лицо, её свалавшиемя в колтун волосы, торчащие мослы на худых плечах, большие тощие ноги.
«А ти я ж яна винаватая, што яурэйка? И што з таго, что яурэйка? Ти чалавек винавыты у тым, яким радиуся?» – подумала Мария и сама дивилась тому, что в мыслях своих назвала Дору по-книжному, а не как обычно говорили люди – «жыдоука».
Уже подходя к дому, подумала, что надо бы хворой черники сушеной отварить, поможет.
На всех столбах уже расклеили листовки: «за помощь партизанам смерть!», «за укрытие жидов – смерть!»…
Броня, испуганная, с мокрым от слез лицом, встретила её на пороге криком:
– Ой, мамочка! В комендатуре говорят, что сосед наш Василь партизанам помогал. Он немца помог взять! Сам на допросе признался.
– Хто казау? – спросила Мария, беря дочку за руки.
– Акимка. Он ночью и рано утром по нашей улице ходил с патрулем, а Василь всю ночь не спал. Его и заподозрили, схватили, он и признался.
– Ах, ты ж, госпади! – снова заплакала Мария. – Грэх мой на сваю душу узяу…
Василь жил в маленьком домике напротив них. Одна нога с культяпкой – не ходок. На хлеб сапожницким делом добывал. За всякую работу брал одинаковую плату – «рубель», «цалковы»!
– Мамочка, а кто там… у нас… в клети… кто? – едва слышно шептала Броня, не пропуская Марию в дом.
– Хто, хто… А нихто! – грубо ответила Мария и, оттолкнув дочку, вошла в сени, гулко топая ногами. У порога сняла бурки, вытащила их из глубоких калош, поставила сушить в печурку, приложила озябшие руки к печке. Внезапно она ощутила внутри себя ледяной холод, который шел от кончиков закоченевших пальцев до самого сердца. – Пляменница. Кажу табе. И ня суй свой нос у чужы вапрос.