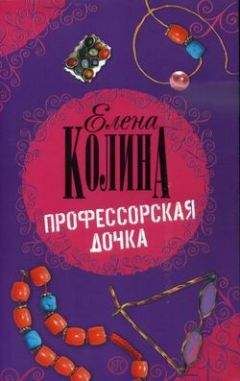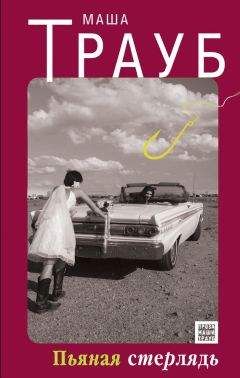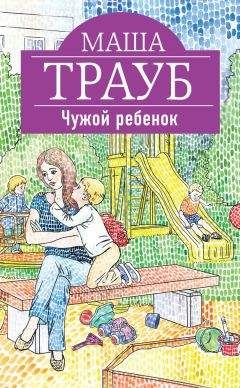Фарид Нагим - TANGER
— Алло, Димка, привет. Наконец-то, неудачник гребан-ный!.. А я у Игоря. У Гусинского… Нет, однофамилец просто. А ты Полину помнишь, к нам приходила. Та самая. Х-ха-ха… Когда пойдем в ресторан «Русскому цара»?!
— Так плохо после проститутки! — вдруг сказал он. — Просто пиздец, гораздо хуже, чем если бы никого не было вообще, никакой женщины, нетуже сил переживать это… — отрешенно говорил он.
— Надо было позвонить Кириллу, — сказал я и заржал.
Из комнаты вышла Полина. Я улыбнулся ей.
— Уходи!
Бледное, перекошенное лицо.
— Димка, жди меня! — я засмеялся и хотел подшутить над нею.
— Уходи немедленно!
Я ухмыльнулся и пьяно одевался у дверей.
— Вызовите такси Степному барону!
— Пошел вон! — она стояла и тряслась. Казалось, еще немного и ее стошнит на меня.
Я хотел извиниться перед ней. Но она рывком распахнула дверь.
Долго стоял в снегу возле метро. Что же делать? Смыкались под снегом верхушки деревьев. Розовый, занавешенный снежинками тоннель впереди. Снег чувствовался на лице, руках, мириады розовых снежинок стояли вокруг на своих колючках, и пищала тихая американская музыка из игровых автоматов.
Потом стоял в метро и снова думал, что делать дальше. Весь этот день ездил по Москве из конца в конец, и денег уже не оставалось.
— Засудил, бельгиец!
Вдруг обиженно встал передо мною бомж.
— Второго гола не было! — продолжал он. — Два один наши проиграли, засудил бельгиец… Теперь даже если дома выиграют, все равно без толку.
Поехал к Гарнику. Смешно, что он со своей новой подругой Таней снял квартиру, не доезжая одной остановки до «Флотской», где они жили с Ксенией и Женькой. Я посидел на ступенях, зажмурился и позвонил. Потом позвонил еще. Прижался к двери и слушал. Быстрое шлепанье босых ступней. Подошли к двери. Я встал перед глазком, улыбнулся, мол, привет, Тань. Ноги постояли и ушли. Я снова сел на ступень. Ближе всех здесь жил Герман, но у него спать негде и не потревожишь его, все-таки поздно. Сидел. Я понял, что Гарник — весь такой из себя герой-любовник — не мужчина, он поэт. А женщины надеются на его мужественность, что-то требуют для себя. Он мог бы стать поэтом и мужчиной, но не стал поэтом, а потому никогда не станет и мужчиной. А Герман будет изменять жене, и люди будут бегать по кругу, я, честно, не знал, что мир никогда не изменится, но Серафимыч — ангел, бог дал его мне, а дьявол и все остальные вместе со мной, разрушили нашу дружбу. Я вспомнил, как он плакал, слушая музыку Нино Рота к фильму «Ромео и Джульетта». Как он прятал лицо, стеснялся стирать слезы, и боялся шмыгнуть отяжелевшим носом. Как он кофе готовил с этой своей радужной пленкой. У меня была самая лучшая женщина на земле — и это был мужчина.
Вышел из подъезда, так романтично парил под фонарями снег, сыпал на лицо, и кожа чесалась. Поймал водителя и отдал ему позолоченную зажигалку «Ронсон», подаренную Няней, и что-то сломилось в этом неудачном дне. Он не верил, что она дорогая, и беспокоился.
Приехал в центр, как будто в центре мне должно было стать легче.
Пошел помочиться в «Макдоналдс» и вместо того чтобы мочиться, он твердо встал в моих пальцах и вздрагивал внутри себя, я дернул пару раз и, сдерживая дыхание, едва не падая, с ужасом разбрызгивал сперму на этот отдраенный макдоналдсовский унитаз. Сперма была кроваво-черная. И я покрылся холодным потом. Наверное, так и должно быть после таких операций?
Проститутки возле «Макдоналдса» посмотрели на меня с брезгливым осуждением и превосходством. Купил жетончик. Позвонил Димке.
— Алло.
— Димка! Привет!
Ебаный таксофон. Я ударил его кулаком. Молодой милиционер сделал вид, что не заметил. На последние деньги купил еще жетончик. Позвоню ему с «Маяковки», все равно ближе к «Белорусской».
В переходе, будто прося милостыню, пела Сара Брайтман. Шел снег. Парили канализационные решетки.
Горели витрины бутика «ЭСКАДА». Длинные тени снежинок. Внутри, в ярком свете запоздалые продавщицы в черных костюмах и два охранника. Видно было, что там тепло, что охранники шутили.
Позвонил из метро «Маяковская».
И я понял, что дело не в таксофоне, а в Димке, что с ним что-то не так. Но как мне было его найти, этот офис у Белорусского вокзала?
У памятника Маяковскому яркий ослепительный свет. И я увидел, что замерзшие люди в бейсболках и капюшонах снимают кино. Дымили прожекторы, и жаркая, полуобнаженная актриса в открытом авто ехала по бесконечной дороге в сторону «Пекина». Жарили три дымящихся солнца, и так хотелось быть счастливым по-настоящему и тоже ехать куда-нибудь в открытом авто под этими легкими снежинками. Никогда этого не будет.
Потом вспомнил, что здесь, совсем рядом, автостоянка, которую охраняют студенты нашего института. И с последней надеждой я пошел туда. Не могло быть, чтобы меня там никто не ждал. На углу этой улицы большая квартира дедушки Ксении, она спит сейчас с Женькой. В маленькой будке горела настольная лампа. Там сидел поэт Миша Шлопак. Он не видел меня. Я подергал цепь на воротах, и он поднял голову. Вышел, скрипя новым снегом.
— ……………………
— Я бы пустил тебя…, — он не помнил, как меня зовут. — Но там на моем топчане тесть пьяный спит. Куда я тебя положу?
Из-под пухлого снега на лобовых стеклах глухо пульсировали красные и зеленые огоньки сигнализации.
— Ясно. Давай покурим.
— Давай.
— Огонек есть у тебя?
— Есть… Что, с женой поругался?
— Да-а, Миш, точно.
— Бывает. А ты если хочешь, можешь в «Мерседесе» переночевать, мне ключи оставляют. Сегодня не так уж холодно. Могу тебе куфайку дать.
В «Мерседесе» было тепло. Как бы заснуть? Голодный не заснешь. Розовый свет сквозь заснеженное лобовое стекло. И смешные звуки при каждом моем движении, будто кто-то рычит и всхрапывает. Сиденье, что ли, или рессоры? Я взмахнул рукой, и ужасная тьма заклубилась на переднем сиденье, резко вздрогнула машина. Тьма вырастала, разворачивалась и на фоне розово освещенного окна встала гигантская оскаленная морда бультерьера. Я обоссался. Это горячее просто вытекло из меня. Я и не знал, что я из тех, кто на такое способен. Может быть, эта вонь обоссавшейся шавки остановила его. Он снова жестко лег и с настойчивой угрозой рычал при малейшем моем движении.
Напротив стоянки строился новый элитный дом. Транспарант растянут с телефонами и слоганом:
ДОМ ТВОЕЙ МЕЧТЫ.
Утром я не смог вылезти без посторонней помощи, а бультерьер никого не подпускал и стоял надо мной, как над добычей. Мишка боялся звонить хозяину, ходил вокруг и проклинал меня. Хозяин прибежал сам. Он вытащил жесткого бультерьера, а Мишка быстро вытащил меня. Я лежал на снегу и сгибал-разгибал ноги, а он оправдывался перед хозяином. Потом хозяин увидел, что я обоссал сиденье. Он ударил Мишу, и тот ткнулся головой в сугроб.
— Натравить что ли на тебя? — я увидел его лицо. — Борь, — обратился он к бультерьеру. — Чё ты, оторвал бы ему всю мудень, бля!
Потом мы с Мишей оттирали салон смоченной в бензине тряпкой.
— Ну, бля, Анвар Бегичев! Вот так всегда, бля, как пустишь кого. Доброе дело не остается безнаказанным! Затрахали вы уже оба со Штромом приходить. Заплатишь мне ущерб, когда премию получишь, понял?!
— Само собой… Какую премию?
— А это же ты Анвар Бегичев?
В старом номере газеты «КАПИТАЛЪ» была фотография Евы Гумбольдт. Она читала какую-то рукопись. Моя пьеса «Крик слона», вместе с пьесами Татьяны Касаевой, Викуши Саврасова, Вовы Мунчика и Б. Мыздловой входила в шорт-лист премии имени Константина Треплева — «Треплевка». Всё-таки он ее послал, ведь он писал им про гостиницу «РОССIЯ». Кто, кроме него? Где он? В Переделкино нет… А теперь не откликнется, теперь особенно, поляк гордый.
Миша налил горячей воды из чайника в умывальник, прибитый к стене их будки, я кое-как обмылся, занял у него мелочь и позвонил в «КАПИТАЛЪ». Они узнали меня и деловито сказали, что еще неясно, на самом деле, кто получит, кто нет, но на всякий случай приходите в Центральный Дом литераторов, вход со стороны ресторана, и приготовьте речь.
двадцать два
— Алло, это Бобруйск? Извините, мог бы я с Димой поговорить.
— Его нет.
— Извините, это его друг, Анвар из Москвы спрашивает, передайте ему…
— Я ничего ему не передам, Анвар, это его мама говорит.
— Очень приятно, а что?
— Его нет, Анвар.
— Как же нет?
— Вы, конечно, можете с ним поговорить, но его нет… как человека разумного его уже нет, — эту фразу она говорила сто раз, наверное. — Он вас смутит.
А Димка, наверное, стоял в своей комнате, дрожал и слушал все это с недоумением.
— Так что можете не звонить из Москвы. Вы понимаете меня… алло…
Это был самый обычный день конца декабря, когда с особой силой кажется, что новый год никогда не наступит, что ничего не разрешится, и безысходно будет длиться ужасно протяженная жизнь.