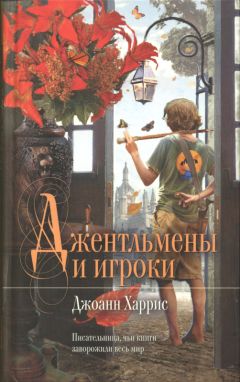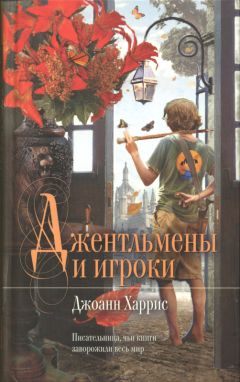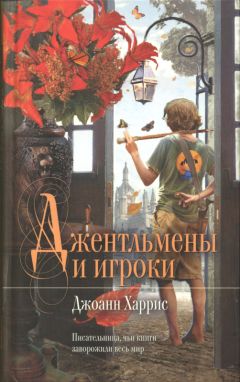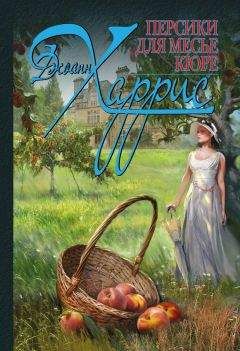Джоанн Харрис - Джентльмены и игроки
Поначалу мать не хочет его впускать. Он уже дважды заходил, говорит она: один раз, когда мы спали, второй — когда мое пиритсовское одеяние сменялось одним из парижских костюмов.
— Миссис Страз, не могли бы вы меня впустить на минутку…
Затем голос матери с округлым акцентом, все еще незнакомый:
— Мистер Честли, я же сказала, у нас был такой тяжелый день. Может, все-таки не стоит…
Даже тогда чувствовалось, как трудно ему с женщинами. Он стоял в обрамлении ночи, опустив голову и глубоко засунув руки в карманы твидовой куртки.
Перед ним моя мать — подобралась, как для прыжка, вся в парижских жемчугах и в костюме пастельных тонов. Его нервирует женский темперамент. Куда проще было бы поговорить с отцом, перейти сразу к делу, коротко и ясно.
— Я понимаю, но мне хотелось бы поговорить с ребенком…
Я вижу свое отражение в чайнике. Благодаря матери выгляжу я хорошо: волосы аккуратно и красиво уложены, лицо отдраено, костюмчик — что надо. Очков нет. Я знаю, ничего не случится, и, кроме того, я хочу увидеть его — и, может быть, даже хочу, чтобы он увидел меня.
— Мистер Честли, уверяю вас, мы ничем не можем…
Я распахиваю дверь кухни. Он тут же поднимает глаза. Впервые я встречаю его взгляд в своем истинном обличье. Мать рядом, начеку, готовая при первом сигнале тревоги схватить меня и увести. Рой Честли делает шаг ко мне, я чувствую уютный запах мела, «Голуаза» и отголосок нафталина. Что, интересно, он скажет, если я поздороваюсь с ним на латыни? Искушение так велико, что почти нет сил сопротивляться, и тогда я вспоминаю, что сейчас играю роль. Узнает ли он меня в новой роли?
На секунду кажется, что узнает. Его глаза, цвета голубых джинсов, слегка воспалены, прищуриваются, встретившись с моими, и пронизывают меня насквозь. Я протягиваю руку — беру его толстые пальцы в свои, холодные. Сколько раз мы встречались, незримо для него, в Колокольной башне, как многому он научил меня, сам того не подозревая. Увидит ли он меня теперь? Увидит ли?
Его глаза пробегают по мне, схватывая все — чистое лицо, пастельный свитер, длинные носки и начищенную обувь. Не совсем то, чего он ожидал, и я с трудом скрываю улыбку. Мать это замечает и сама улыбается от гордости за свои успехи. И по праву. Мое преображение — дело ее рук.
— Добрый вечер, — говорит он. — Простите за вторжение. Я мистер Честли. Классный руководитель Леона.
— Очень приятно, сэр, — говорю я. — Меня зовут Джулия Страз.
10Трудно удержаться от смеха. Я так давно для себя просто Страз, а не Джулия. И кроме того, мне никогда не нравилась Джулия, как не нравилась она отцу, и сейчас так странно, что мне о ней напомнили, так странно быть ею, странно и непонятно. Мне казалось, что я переросла Джулию, как переросла Шарон. Но мать воссоздала себя. Почему же я не могу?
Честли, конечно, так этого и не увидел. Для него женщины — чуждая раса, которой можно восхищаться (или бояться) на безопасном расстоянии. Со своими мальчиками он говорит совсем по-другому, а с Джулией его легкость сменяется зажатостью, он становится настороженной пародией на свою живую натуру.
— Я совсем не хочу вас расстраивать, — говорит он.
Я киваю.
— Вы не знаете мальчика по имени Джулиан Пиритс?
Признаюсь, мое облегчение омрачилось некоторым разочарованием. Я ожидала большего от Честли, как и от «Сент-Освальда». В конце концов, я практически выложила ему правду. А он ее не замечает. В своем высокомерии — особом мужском высокомерии, лежащем в основе «Сент-Освальда», — он умудрился не заметить то, что смотрело ему прямо в глаза.
Джулиан Пиритс.
Джулия Страз.
— Пиритс? — переспрашиваю я. — Вроде нет, сэр.
— Он, должно быть, ваш ровесник. Темные волосы, худощавый. Носит очки в металлической оправе. Возможно, учится в «Солнечном береге». Может, вы видели его где-нибудь в «Сент-Освальде»?
Я качаю головой:
— К сожалению, нет, сэр.
— Вы ведь понимаете, почему я спрашиваю, правда, Джулия?
— Да, сэр. Вы думаете, что он был здесь ночью.
— Он здесь был, — резко бросает Честли. Кашляет и добавляет мягче: — Я думал, что вы тоже его видели.
— Нет, сэр.
Я снова качаю головой. Как забавно, думаю я, но почему же он не узнает меня? Может, потому, что я девочка? Клуша, быдло, шалава, чернь? Неужели невозможно поверить, что Джулия Страз существует?
— Вы уверены? — Он пристально смотрит на меня. — Потому что этот мальчик свидетель. Он был там. Он видел, что случилось.
Я смотрю вниз, на сверкающие носки своих туфель. Я так хочу ему все рассказать — чтобы увидеть, как у него отвиснет челюсть. Но тогда ему придется все узнать о Леоне, а это невозможно. Ради этого слишком многое принесено в жертву. И теперь придется поступиться своей гордостью.
Я поднимаю на него глаза, подпуская слезу. Это нетрудно. Я думаю о Леоне, об отце и о себе, и слезы льются сами собой.
— Простите, — говорю я. — Я его не видела.
Старый Честли смущен, он отдувается и переминается с ноги на ногу, точно так же, как в преподавательской, когда плакала Китти Чаймилк.
— Ну все, все.
Он вынимает огромный грязноватый носовой платок.
— Теперь вы, надеюсь, довольны. — Мать испепеляет его взглядом и властно кладет руку мне на плечо. — После всего, что пережил этот бедный ребенок…
— Миссис Страз, я не…
— Полагаю, вам лучше уйти.
— Джулия, пожалуйста, если вы что-нибудь знаете…
— Мистер Честли, — произносит она. — Я хочу, чтобы вы ушли.
И он нехотя удаляется, разрываясь между нетерпением и неловкостью, он приносит извинения и в то же время полон подозрений.
Он подозревает, это читается в его глазах. Он, конечно, далек от истины, но за годы преподавания у него развилось шестое чувство в том, что касается учеников, своего рода радар, который из-за меня каким-то образом пришел в действие.
Честли поворачивается к выходу, сунув руки в карманы.
— Джулиан Пиритс. Вы уверены, что не слышали о нем?
Я молча киваю, улыбаясь про себя.
Его плечи опускаются. Затем, когда мать открывает ему дверь, он внезапно оборачивается и встречается со мной взглядом — в следующий раз это случится через пятнадцать лет.
— Я не хотел вас расстраивать, — говорит он. — Мы все очень переживаем из-за вашего отца. Но я был классным руководителем Леона. Я отвечаю за своих мальчиков…
Я снова киваю. «Vale, magister».[55] Тихий шепот, но, клянусь, он услышал.
— Что, простите?
— Всего доброго, сэр.
11А потом мы уехали в Париж. Новая жизнь, сказала мать, ее девочка начнет жить заново. Но все оказалось не так просто. Париж мне не понравился. Я скучала по дому и лесам, по уютному запаху скошенной травы в полях. Мать приводили в ужас мои мальчишеские ухватки, в которых она, конечно, обвиняла отца. Он никогда не хотел девочку, говорила она, причитая над моими остриженными волосами, тощей грудью и расцарапанными коленками. Благодаря Джону, заявляла она, я больше похожа на грязного мальчугана, чем на изящную дочурку ее фантазий. Но все это изменится, говорила она. Придет время, и я расцвету.