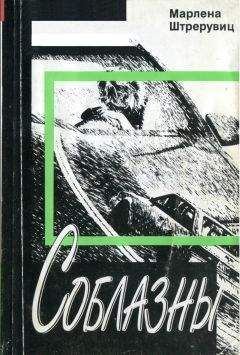Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 11 2008)
Грабители как бы оказываются авторами этой истории, переданной театру по наследству от мизантропической Татьяны Толстой, которая ведь не пишет жизнь, но исследует самые разные степени уродства и безобразности. Несмотря на то что дура Соня, чья некрасивость всячески подчеркивается и гиперболизируется (для того чтобы на контрасте показать ее внутреннюю красоту, из которой растет возможность самопожертвования), оказывается самым что ни на есть нормальным и самым человечным человеком.
Толстая — последовательный певец и воспеватель распада, тупика, конченности и конечности. Именно эту энергию и берет на вооружение малоразговорчивый Херманис: лишив Соню пола, он сделал ее половую принадлежность советской, то есть не равной своей. Не равной и нашему постсоветскому опыту. Атлантида советского быта, сгинувшая точно так же, как Атлантида Средневековья у Гуревича, оказывается красочкой, окрашивающей фон, фотографическим витражом, придающим содержание пустоте повседневности, тому самому веществу жизни, что труднее всего фиксируется.
Скверный анекдот оборачивается трагедией. Театральным деятелям ни за что нельзя доверяться, когда они начинают нас смешить. Жизнь — гомерически смешная штукенция, однако, при любом раскладе, дура ты или записной интеллектуал, наблюдающий за дурой из модного зрительного зала, кончится она не очень хорошо. Спектакль Херманиса о бессмысленности жизни, о безжалостной силе времени, стирающего пламенные розы на устах и на щеках, о тщетности любых наших упований. Всё и вся уйдет под воду, разрушится, сгинет.
Жизнь коротка, и только искусство вечно. Поэтому “Соня” еще и про театр, исследующий границу современного сострадания, размышляющий о том, как, какими способами пробиться к захламленному информационной бытовухой современному сознанию.
Театральный замысел проникает в подкорку исподволь, подобно вору подбирая ключи и отмычки с помощью уморительных гэгов. “Соня” оказывается расчетливой и точной конструкцией, срабатывающей так, как нужно, без какого бы то ни было нажима. В отличие от русского психологического, Херманис действует тактично и ненавязчиво, из-за чего степень отчаяния повышается в разы и начинает зашкаливать.
Весьма интересный опыт, особенно на фоне плакатности “Жизни и судьбы” Льва Додина, катком прокатывающегося по психике зрителя и жмущего на все возможные и невозможные кнопки. Оказывается, есть манипуляция — и манипуляция. Жирная гуашь, выбивающая катарсис так, как домохозяйка выбивает пыль из ковра, и полупризрачная акварель, выжимающая слезы практически из ничего.
Едва ли не на пустом месте — ведь разве может причиной повышенной слезоточивости стать узнавание на сцене предметов, расставание с которыми произошло для нас естественно и бесследно?
2. “Латышские истории” Алвиса Херманиса & Cо
“Латышские истории”, при всем внешнем минимализме, претендуют на универсальность. Актеры Нового Рижского записали двадцать монологов, которые и рассказывают на пустой практически сцене один за другим. Монологи произносятся на фоне большого видеоэкрана, где изображения оказываются контрапунктом к историям. В Москве за два вечера показали шесть монологов, по три персонажа за один присест. Полный срез общества, полноценное социологическое исследование — от низа и до верха, разных возрастов, профессиональных занятий, разных судеб.
Гёте говорил, что нация возникает и складывается тогда, когда появляется “национальный” театр. “Латышские истории” и выполняют такую функцию фиксирования старой-новой народности. Так название театра обретает еще один, дополнительный, смысл.
Монологи в духе “новой драмы”, когда есть документальная основа и плавающий повествователь. Мне выпал первым рассказ воспитательницы детского дома (Гуна Зариня), которая начала повествование о детстве Марии.
Постепенно, как бы проговариваясь, Зариня переходит на первое лицо (Марии), потом (на экране меняются кадры спящих детей) снова говорит о Марии со стороны, потом, точно невзначай, опять соскальзывает на первое лицо. Сначала ты думаешь, что таким образом актриса исповедуется, но последующие монологи разводят рассказчика и персонажа все дальше и дальше.
Воспитательница сидит на детской кроватке, купленной в “IKEA”, и читает сказку про Машу и медведя. Жизненное пространство обозначено линолеумом и разноцветным ковриком. Еще на сцене есть стол в стороне, он изображает кафе, возникающее по ходу сюжета.
Героиней следующей истории оказывается таксистка (Яна Цивжеле), у которой муж-пьяница умер во время гуляния на свадьбе. Сначала, сидя в автомобильном кресле, она, как бы в поисках правильной интонации, рассказывает смешные байки из шоферского быта, а потом переходит к семейной трагедии: ничто не предвещало такого вот конца и т. д.
Есть ведь настоящая, любительская видеозапись этой самой свадьбы, безыскусное повествование о деревенском празднике, на котором ты видишь и героиню рассказа — в красном платье (она свидетельница), — и ее мужа. Понятно, что дама в красном платье, которую мы видим с экрана, не равна рассказчице на сцене.
Дальше — больше.
После антракта к нам выходит вполне молодой Вилис Даудзиньш, чей рассказ ведется от лица шестидесятилетнего водителя автобуса (кресло с подушкой и обшарпанный стол), сомневающегося (на экране мы видим чрево обычного городского автобуса-гармошки, постепенно заполняющегося пассажирами; кто-то выходит на очередной остановке, кто-то заходит, кондуктор обилечивает пассажиров, за окнами мелькает весенний город), правильно ли он прожил свою жизнь.
За день до этого, судя по программке и по рецензиям, показывали истории бывшего моряка (Гундарс Аболиньш — тот самый, что премьерствует в “Соне”), солдата (Андрис Кейшс) и двух воспитанников детского дома (Антон Замышляев и Евгений Исаев); эти истории конспективно изложены в буклете.
Отчужденные, спокойные синтаксические конструкции (“Антон и Женя родились в Латвии. Они выросли без родителей, в детском доме. Там им пришлось много чему научиться. Искусство выживания они освоили прекрасно...”), которыми выложены и все прочие части “Латышских историй”.
Важно не выдувать розовых пузырей, не подпускать сентиментальности, не превращать происходящее в мелодраму. Актеры подчеркивают свою социальную тождественность персонажам: мы или они — какая разница. Отсюда и возникает эта тихая интонация, когда существенно не переборщить с надрывом и откровенностью. В откровенность здесь только играют, и когда Зариня, обращаясь к Богородице, берет паузу как бы от возникшей неловкости, ты понимаешь: такое задание на такой рисунок она получила от Херманиса.
Монологи, как костяшки “лего”, можно компоновать в разных сочетаниях, между собой они не связаны, легко можно представить театральный марафон длиной в двадцать таких частей.
Однако сложно понять, кто это может выдержать целиком, ибо, несмотря на внутреннюю драматургию каждого рассказа, все они демонстративно безыскусны. Под пристальное внимание режиссера и актеров попадают обыкновенные, заурядные люди, в жизни которых, с одной стороны, можно найти мало внешних и ярких событий, а с другой (и это декларация создателей спектакля) — любая человеческая жизнь, все равно что “драма Шекспирова”, заключает в себе победы и поражения всечеловеческого масштаба.
Маленький человек оказывается интернационален, поэтому название спектакля звучит иронически — подобные истории случаются, подобные жизни проживаются и могут быть прожиты где угодно. И когда водитель автобуса, путая латышские слова и русский мат, начинает ругать свое правительство, смеешься тому, насколько ситуации в разных странах, России и Латвии, оказываются похожими.
Так, вероятно, похожи между собой все маленькие люди, словом, все жизни; все жизни, которые, несмотря на разницу занятий, воспитаний и социального положения, проходят один и тот же путь — от детства к смертному порогу.
Человеческая жизнь, заключенная в кавычки сцены, оказывается законченной историей с кристаллизующейся в финале моралью — в отличие от жизни человеческой, где мораль и осознание логики жизни (жизни как законченного высказывания) следуют только за смертью.
Это исследование повседневности и возможностей, границ театра мы видели уже в “Соне”. Только там для того, чтобы подкрасить “вещество жизни”, налитое в сосуд театральной формы, создавалась мудреная метафорически конструкция игры в игру, а здесь повседневность берется как бы в самом неприглядном и неприглаженном виде — такой, какая она есть. На самом же деле смысл и мораль истории возникает только после термической обработки ее актерами и режиссером, только после переложения на язык сценических блоков.