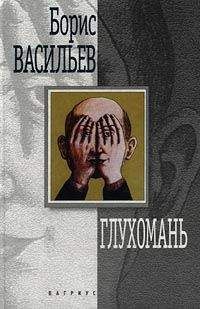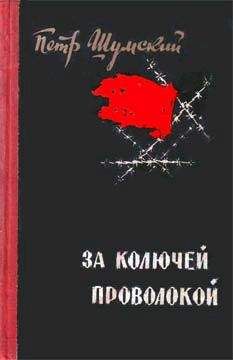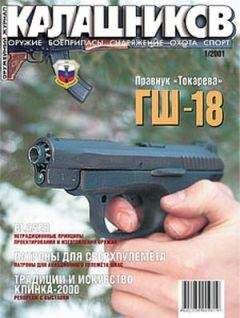Борис Васильев - Глухомань. Отрицание отрицания
— В Центр вызывают. Срочно.
И тут же умчался. Тане стало почему-то тревожно — согласно основному чувству тогдашнего времени — и она усиленно занималась текущими делами, чтобы изгнать эту безадресную тревогу. А муж прибыл счастливым:
— Назначен командиром чоновского отряда. Будем в тылу контрреволюционную нечисть уничтожать без всякой пощады и интеллигентской мягкотелости, как товарищ Ленин говорит.
— Я с тобой.
— Уверен был, о чем и объяснил товарищам. Собирайся. Тебе надо лично мандат получить.
— Какой мандат?
— Какой положено. С печатями, поручительствами и подписями. Ты комиссаром в мой отряд назначаешься, а так как ты университет закончила, то заодно и следователем с правом применения высшей меры социальной защиты.
— Так ведь я же числюсь историком, а не юристом, — растерялась Татьяна. — Я с таким обилием прав, боюсь, распорядиться не сумею. Или распоряжусь не так. Я даже законов не знаю. Никаких. Ни уголовных, ни процессуальных…
— Нет законов против идейных врагов, золотопогонников и прочей контрреволюционной сволочи? И правильно, что нет, потому что сейчас торжествует только закон защиты нашей социалистической родины. Для этого и предназначены части особого назначения. Так что одевайся и… — он прищурился. — Красную косынку на голову. Это теперь твой обязательный головной убор.
— Навсегда? — попыталась пошутить Таня.
— Нет, — он широко улыбнулся, даже подмигнул. — До победы мировой революции.
— Тогда потерплю, — сказала Татьяна, надевая косынку. — Честно говоря, меня весьма беспокоит предстоящая следственная работа. Я в ней ничего не смыслю, так может быть стоит взять какого-нибудь толкового юриста в качестве моего личного консультанта?
— Работа наша секретная, и никакая гнилая интеллигенция к ней не должна иметь касательства.
— Значит, возьмем не из гнилой.
— Не гнилой интеллигенция не бывает. Так Владимир Ильич сказал, так что никаких сомнений на этот счет.
— Бывает, Ленечка, бывает, — вздохнула Татьяна. — Например, моя семья, а в особенности — отец…
Сукожников вдруг строго, даже зло, посмотрел на нее. Сказал, увесисто помолчав:
— Твой отец погиб на баррикадах Пресни в четвертом году. Смотри, если когда забудешь об этом…
— Что ты, что ты, — спохватилась бывшая потомственная дворянка Вересковская. — Я пошутила. Просто пошутила.
Он продолжал сурово смотреть на нее, сдвинув брови к переносью и куда-то убрав собственные губы.
— Я очень неудачно пошутила, — тихо сказала она. — Прости, пожалуйста. За глупость.
— Такая глупость головы может стоить, — угрюмо сказал Сукожников. — За нами, партийцами, в четыре глаза глядят и в шесть ушей слушают. Мы есть пример, и сиять должны, как пример для всего народа. И болтать попусту…
— Прости ты свою глупую бабу, — Татьяна обняла его, крепко прижалась, и Леонтий улыбнулся.
— Ладно уж, пошли мандат получать.
— Прощена?
— Если еще раз ляпнешь да, не дай Бог, при посторонних, худо будет. Всем нам худо может быть.
— Слово партийца.
— Тогда — вперед.
А на улице пока ждали трамвая, припомнил:
— Да, после получения мандата нам еще в особый склад необходимо заехать , учти.
— Какой склад?
— Кожанки получить надо. Кожанка — теперь форма наша. Ну, и беспощадность, конечно, тоже.
16.
Во вторую ночь своего дежурства на бронепоезде «Смерть империализму!» Павлик Вересовский поклялся, что никогда в жизни по собственной воле на подобном чудовище передвигаться не будет. Койки были короткими и жесткими, откидных сидений и не предполагалось, а стены узкого — встречные еле-еле менялись местами, подтягивая животы — коридора шершавыми, как самая грубая наждачная бумага. И эта узкая кишка освещалась только щелями бойниц да единственной лампочкой мощностью в двадцать свечей, висевшей под самым потолком перед дверью командного пункта.
Все прелести этого помещения испытал на себе Павлик, назначенный подносчиком пулеметных лент в первом же бою. Отсек боепитания располагался в противоположном от пулемета конце коридора, Павлик не смог зараз поднять цинковый ящик, кое-как вскрыл его и таскал ленты охапками ко всем пулеметным точкам броневагона. От бесконечного грохота выстрелов, пороховых газов, мгновенно заполнивших все пространство, он ошалел, терял ориентировку, а заодно и ленты, которые расстилались теперь по всему полу от отсека боепитания до противоположного конца, где располагалось пулеметное гнездо. У него текли слезы от пороховых газов, потому что вентилятор не работал, мучительно першило в горле. Павлик надрывно кашлял, путался в пулеметных лентах, падал, поднимался и снова бежал то за лентами, то к прожорливым пулеметам, непременно при этом падая, в какую бы сторону он не бежал. И с ужасом думал только о черных глазах товарища Анны.
Наконец, прорвались. Потные, голые по пояс пулеметчики, поскальзываясь на расстеленных вдоль всего коридора лентах и матерясь, пробирались к спальным отсекам то ли пить воду со спиртом, то ли — спирт с водой. Павлик собирал ленты, уже ни о чем не думая. Он оглох и словно бы ослеп, что ли, потому что все время тыкался о шершавые стены плечами. Вагон немилосердно качало, поскольку поезд спешно набирал ход, уходя от негостеприимного безымянного полустанка, где ждала непредвиденная засада.
Из штабного купе вышел очкарик. Спросил с надеждой:
— Тебя не ранило?
— Цел, — хрипло сказал Павел.
— Жаль. Конец буквы не допишешь. Иди, товарищ Анна ждет. Иди, иди, чего глаза вытаращил?
Это был конец. Павлик понял, что конец, по ноющей боли в животе. И, не умываясь, задрожавшей рукой чуть откатил дверь.
— Вызывали, товарищ Анна?
— Входи, — сказала товарищ Анна, увидев его в щели.
Он вошел, прикрыл дверь и остановился у входа.
— Поздравляю с первым боем.
Павел ответить не смог, только плямкнул губами.
— Иди сюда, — Анна плеснула в оловянную солдатскую кружку, протянула. — Пей.
Павлик судорожно сглотнул:
— Не могу. Это ведь спирт, да?
— Если я говорю, значит, ты — можешь. Чуть выдохни, выпей одним глотком и, не дыша, запей водой. Вода — в графине. Пробку с графина сними, а то еще задохнешься.
Вересковский выпил, как велено. Но глотнув из графина, снова судорожно закашлялся.
— Сейчас эта пороховая гарь осядет. Ты хорошо воевал, старательно. За это получишь мою награду. Раздевайся.
— Как?.. — растерялся Павлик.
— Догола. Ну, чего топчешься? Это — приказ.
— Сейчас, сейчас…
Павел торопливо начал раздеваться, путаясь в одежде. В голове мутило от выпитого спирта.
— Какова твоя политическая ориентация? — вдруг строго спросила товарищ Анна.
— Я?.. Я — с вами.
— А я — против большевиков. Это ведь они устроили нам засаду на полустанке. Теперь — до конца. Пойдешь со мной до конца, гимназист? Или отвалишь, дыма наглотавшись?
— До конца, товарищ Анна.
— Тогда раздень меня.
— Я?.. Я не умею.
— Потому-то и зову, что не умеешь, это в тебе проглядывает. Только сначала замочек в дверях поверни.
Утром Павел Вересковский покинул купе Анны в должности адъютанта. Он ожидал неприятного разговора, но студент улыбнулся, вздохнул с видимым облегчением, отдал ему браунинг в желтой кобуре и лично водрузил на голову нового фаворита собственную студенческую фуражку.
— В ней больше формы, чем содержания в наших бронированных условиях. Но все же — дарю.
Маленький, но хорошо вооруженный бронепоезд метался по второстепенным дорогам юга России, захватывая полустанки с местечками, пополнялся топливом, заливал воду, отнимал все вооружение, которое только находил, и беспощадно грабил местное население.
О грабежах Павел узнал позднее. Анна на боевые операции его не отпускала, при дележе добычи он не присутствовал, как, впрочем, и товарищ Анна. Все это происходило по отработанной системе, нарушителя которой — об этом знали все — ожидал немедленный расстрел на месте.
Впрочем, он не особенно рвался. Ненасытная товарищ Анна восполняла утерянное на каторге с таким пылом, что у Вересковского и сил-то никаких не оставалось. Может быть, не столько сил — он был еще очень молод и легко их восстанавливал — сколько желания. Как выяснилось, желание узнать нечто новое утрачивается быстрее всех прочих желаний. Или — изнашивается, что ли. И наступает состояние полного безразличия ко всему, что происходит по ту сторону серых бронированных стен.
Однако полное превращение юного гимназиста в племенного жеребца не входило в интересы товарища Анны. На каком-то этапе их бессонных декамероновских ночей она решила, что пришла пора готовить из любовника верного боевого соратника.