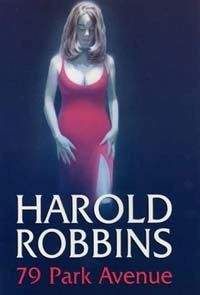Джойс Кэри - Из первых рук
— Эти леди и джентльмены, — сказал профессор, — члены лондонской ассоциации лоумширских долдонов (или что-то в этом роде), уполномочены преподнести своему основателю, генералу Брету Брендиглоту (или что-то похожее), портрет его особы, маслом. И когда они обратились ко мне за советом...
— Мы были бы весьма польщены вашим согласием, мистер Джимсон, — сказал герцог, поворачиваясь ко мне.
— Я знаю, вы мне не откажете, вы же сами лоумширец, — сказала княгиня, строя мне глазки.
— И такой милый, — сказала герцогиня, обольстительно улыбаясь.
Я просто не знал, что сказать. На глазах у меня выступили слезы. Слезы благодарности или чего другого. Возможно, я произнес бы краткую речь, в которой выразил бы свою признательность и тому подобное, но тут обнаружилось, что Коуки кипятится в углу за печкой.
Коуки закипает мгновенно, как кофейник. Возможно, потому, что она такая угловатая.
— Не знаю, как вы, — просвистела она, — но я больше ждать не могу: мне через десять минут открывать. Кто хочет чаю, пусть снова заваривает. Этот — отрава.
И она удалилась. Гнев Коуки вызвал панику снизу доверху. Потому что в час открытия Коуки становилась королевой, и если она отказывалась отпускать — все. Кто бы вы ни были, вы превращались в «до восемнадцати» и — вон из заведения.
Набат, Знаменито и девчонки посыпались с лесов в таком темпе, что мне пришлось крикнуть:
— Кисти в воду, банки сдать. Эй, Джоркс, смотри в оба! Никого не выпускай!
И пока я наводил порядок, я не заметил, куда делась депутация. Позже мне мерещилось, будто я видел, что герцога вместе со старыми метлами и остатками каната забросило в ризницу. Если это так, он и сейчас там. И кости его белеют среди ведер с известковым раствором. Еще одна жертва, принесенная на алтарь искусства. Но путь в Национальную галерею усеян герцогами от Академии.
Глава 42
Закат, к счастью, выдался интересный. Небо было на редкость глубокое; глубокое, словно шляпа. С великолепной отмывкой: от коричневато-золотистого, как подрумянившийся бекон, на западе, через капустно-зеленый и бутылочно-зеленый к ярко-голубому, как цвет гвардейских мундиров, на востоке. Ни облачка. Воздух на редкость ясный. Такой ясный, что на полотне его было бы невозможно передать. Зато в нем можно было распрямить душу. Невыразимое наслаждение, после того как тебя всего скрючило от разговоров и пустых любезностей. Для меня это было лучшим лекарством, и оно, конечно, растворило бы неприятный осадок, оставшийся от беседы с господами, и я увидел бы, что она лишь комический эпизод, если бы не Носатик, который бросился ко мне с криком, что депутация была подмазана.
— Что это значит? — сказал я грустно. — Подмазана? Что за странное слово.
— Есть свидетели, — сказал Носатик, свистя мне в ухо, словно змея, словно змий-искуситель. — Меджи видела из окна, как они говорили с этим типом в синем жилете.
— Спрашивали, как пройти, — сказал я. — Вполне естественно в этой части города.
— Но вы писали мистеру Алебастру, прося его повлиять на муниципалитет, а он не сказал об этом ни слова.
— Он не успел, — сказал я, но, что и говорить, довод был веским.
— Его подмазали, — сказал Носатик. — За вашей спиной.
Это был голос древнего змия. Как не поверить, что за твоей спиной сговариваются погубить тебя, когда так оно и есть. Но я слишком устал, чтобы тут же размозжить Носатику голову. И только кротко сказал:
— Что поделаешь, Носатик. Профессору не нравится «Сотворение». Никому не нравится. Никому, кто старше двадцати пяти и с деньгами. Да и глупо ожидать, что такая картина может понравиться. Она опасна. Она равносильна акту агрессии. Написать такую картину — все равно что залезть к человеку в сад и подложить динамит под его жену. Или похитить его детей. Сколько народу потеряло детей таким вот образом — из-за картины. Посмотрят, увлекутся, и все. Нет, — сказал я, — если против меня существует заговор, то это только разумно и справедливо. И, пожалуйста, не оскорбляй моих друзей, даже если они мне враги. Доживешь до моих лет, — сказал я сердито, — так оценишь мой совет: с друзьями как с друзьями. Пусть это не всегда умно и совсем не легко дается. Но так здоровее для печени, глаз и почек. В конце концов, дружба имеет один несомненный плюс — если тебе не нравятся твои друзья, можешь не встречаться с ними, они не обидятся. Ни при каких обстоятельствах. Если вы друг к другу действительно хорошо относитесь.
Тут мы подошли к «Трем перьям», и, увидев, что белая кошка Альфреда трется у двери, я поймал ее и прихватил с собой. Мне хотелось ласки. А кто же ласковее кошки? В ее кошачьем роде. Но эта киска вырвалась из моих рук и вскочила Меджи на шею. И прежде чем Меджи успела вскрикнуть, растаяла в теплой, дружеской атмосфере, невероятно густой в «Трех перьях». Тогда я призвал себя к выполнению своего долга — веселиться.
— Ну, девочки, — сказал я. — Закон есть закон. До восемнадцати входить воспрещается. Поэтому помним: нам всем восемнадцать.
И они канареечками пропели в ответ:
— Не волнуйтесь, мистер Джимсон. Нам не впервой.
— И никаких крепких напитков, — сказал я. — Крепкие напитки не для девушек. Королева Елизавета пила пиво, и милые крошки, которым сейчас лежать бы в кроватках и тянуть из рожка, тоже будут пить пиво.
— О мистер Джимсон, как вы скажете.
— Шестнадцать маленьких, Альфред, и минеральной воды тому, кто хочет. Как жизнь, Уолтер? — Потому что тут околачивался почтарь Оллиер и вся шатия. — Семнадцать маленьких, Альфред. На, возьми сколько нужно. — И я протянул ему фунт.
— Выиграли, мистер Джимсон?
— Да, вроде.
Мне не хотелось объяснять ему все подробности. Я пришел отдохнуть.
На стойке появилась кошка. Возникла неизвестно откуда, бесшумно, словно злой дух в волшебном фонаре. И заскользила по стойке. Шла, не глядя, но не задела ни одной лужицы. Сама по себе. «Тигр! Тигр! Весь огонь...»
— Удачи вам, мистер Джимсон!
— Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, Берт! Твое здоровье, Уолтер!
Мне казалось, мы проведем приятный вечер. Конечно, всякое бывает, но мне казалось, все будет хорошо. И вдруг на меня двинулся какой-то старикашка с кривой ногой и длинным красным носом вроде недочищенной морковки. Он начал орать и размахивать кулаками. Его приятель — раскормленный коротышка в черном пальто, с черными, нависшими над глазами космами и усами щеточкой, словно мех котика, — старался его оттащить.
— Здравствуйте! Вот так встреча, — сказал я, пытаясь пожать им руки.
— Наврал мне с три короба, — кипятился старикашка.
— Я? Вам? — сказал я.
— Мол, снимаю часовню для религиозных надобностей.
Я взглянул еще раз и узнал в старикашке старую перечницу. Просто при электрическом свете его нос, как астра, изменил цвет. У меня упало настроение. Хватит с меня политесов. Я пришел отдохнуть.
— Именно для религиозных, — сказал я. — Для религиозного искусства.
— Что? Это грязное паскудство?
— Да, мне так кажется. Хотя, конечно, я не могу быть вполне уверен.
Берт почесал кошке за ухом. Обычно ей нравилось, когда ее чесали. Но на этот раз, как я не без удовольствия заметил, она не откликнулась на ласку, а продолжала пробираться между нами — Бертом, Оллиером и мною, — как сквозь лес.
Перец разглагольствовал оглушительно громко:
— Ах, он не вполне уверен! Зато мы уверены. Мы еще не ослепли. Мы уверены, что это кощунство.
— Нет, я не могу быть вполне уверен, — повторил я. — Во всяком случае, не сейчас. Я устал.
— Ну так знайте, — неистовствовал Перец, торжествуя, так как решил, что последнее слово остается за ним, — я подал на вас в суд. За святотатство и порнографию. Так что нечего зря изводить краску на вашу пакостную мазню.
— Верно, нечего, — сказал я и так глубоко вздохнул, что чуть не сдул с пеной половину пива из кружки; я не мог закрыть глаза на то, что против меня составлен заговор. А я не хотел ничего видеть. — Но, пожалуй, я уж докончу, — сказал я. — Уж очень хочется закончить картину. Разделаться с ней.
— Полиция с ней разделается, — взвизгнул Перец, все более распаляясь. — А заодно и с вами.
Тут к нему подскочил Носатик, пытаясь что-то крикнуть. Но получилось только: «С-с-с-с...» Носатик сморщил нос и попытался еще раз: «М-м-м...» Снова сморщил нос, разрыдался и двинул Перца по перечнице.
— Вон, — сказала Коуки и, прежде чем мы успели моргнуть глазом, схватила Носатика за шиворот и выбросила за дверь. Потом вернулась за стойку и сказала:
— А вы попридержите язык. Вы оба. А то отправитесь за дверь тем же манером.
Воцарилось гробовое молчание. Дань уважения Коукер.
— Жаль терять съемщика, мистер Херн, — сказал Оллиер.
— Плевать я хотел! — крикнул Перец. — Я не прощелыга, как некоторые; мне вера дороже денег. И я говорю «нет» бездельникам, которые называют себя художниками.