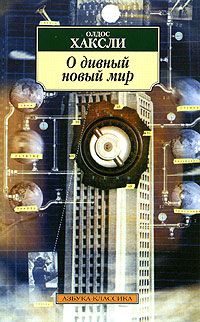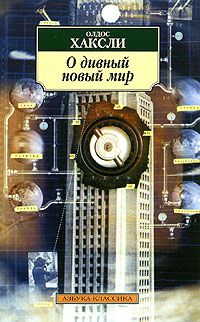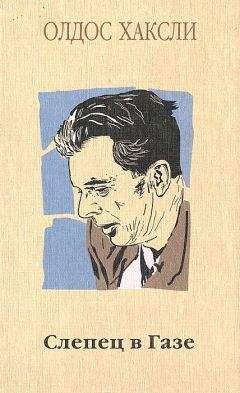Габриэль Маркес - Жить, чтобы рассказывать о жизни
В тот же самый период состоялась моя единственная встреча с великим поэтом Луисом Карлосом Лопесом, более известным как Одноглазый, который изобрел очень удобный способ быть мертвым, не умирая, и похороненным без погребения и надгробных речей. Он жил в историческом центре в историческом доме исторической улицы дель Таблон, где родился и умер, никого не побеспокоив. Он виделся с небольшим количеством постоянных друзей, между тем как его слава великого поэта росла при его жизни, как растет только посмертная слава.
Его звали Одноглазым, хотя он им не был, потому что в действительности он был только косоглазым, а также от особой манеры, которую было трудно определить. У его родного брата Доминго Лопеса Эскауриасы, главного редактора газеты «Эль Универсаль», всегда был один и тот же ответ для тех, кто его спрашивал о брате:
— Он там.
Это казалось отговоркой, но было единственной правдой: он был там. Более живой, чем кто-либо другой, но также с преимуществом быть таким, чтобы об этом не слишком знали, отдавая себе отчет во всем и решивший похоронить себя заживо. О нем говорили как об исторической реликвии, и больше всего те, кто его не читал. Сколько-то времени после того как я приехал в Картахену, я не пытался увидеть его, из уважения к преимуществу невидимых людей. Ему тогда было шестьдесят восемь лет, и никто не ставил под сомнение, что он был выдающимся мастером языка всех времен, хотя нас было мало тех, кто действительно знал цену редчайшему уровню его выдающейся деятельности.
Сабала, Рохас Эрасо, Густаво Ибарра, мы все знали его стихи наизусть и всегда их цитировали, не думая, просто от души, цитировали всегда точно, чтобы украсить наши беседы. Он не был нелюдимым, а скорее застенчивым. До сих пор я помню, что не видел его портрета, если такой был, а какие-то легкие шаржи, которые печатались в округе. Думаю, что из-за того, что мы не видели его, мы забыли, что он все еще продолжает жить в этом мире, и однажды вечером, когда я заканчивал мою дневную статью, Сабала приглушенно воскликнул:
— Черт возьми, Одноглазый!
Я поднял взгляд от машинки и увидел человека более странного, чем видел когда-либо. Намного ниже, чем мы его себе представляли, с волосами такими седыми, что они казались голубыми, и такими непокорными, будто чужими. Он не был одноглазым, кличка образовалась, видимо, из-за косоглазия. Он был одет как дома: в брюки из темного репса и рубашку в полоску, правая рука на уровне плеча и серебряный держатель с зажженной сигаретой, которую он не курил, а пепел от которой падал, когда уже не мог держаться сам.
Он прошел до офиса своего брата и вышел два часа спустя, когда в редакции оставались только Сабала и я, ожидая возможности поприветствовать его.
Умер он через два года. Потрясение, которое произвела его смерть на почитателей, было таким, словно он не умер, а воскрес. Лежа в гробу, он не казался таким мертвым, как когда был живым.
В это же самое время испанский писатель Дамасо Алонсо и его супруга романистка Эулалия Гальваррьято выступили с двумя лекциями в актовом зале университета. Маэстро Сабала, который не любил вторгаться в чужую жизнь, превозмог свою деликатность и попросил у них аудиенции. Его сопровождали Густаво Ибарра, Эктор Рохас Эрасо и я, и между нами возник мгновенный контакт. Мы пробыли примерно четверть часа в закрытой гостиной гостиницы «Карибе», обмениваясь впечатлениями об их первой поездке в Латинскую Америку и наших мечтах о новых писателях. Эктор принес им одну книгу стихов, а я фотокопию рассказа, напечатанного в «Эль Эспектадоре». Нас обоих интересовала их оценка, которую мы находили, скорее, не в прямых высказываниях, а в их недомолвках, в общем, приятных для нас.
В октябре я нашел в «Эль Универсаль» послание от Гонсало Малльярино, в котором сообщалось, что он меня ждет вместе с поэтом Альваро Мутисом в «Тулипане», незабываемом пансионе в курортном местечке Бокагранде, в нескольких метрах от места, где приземлился Чарльз Линдберг примерно двадцать лет назад. Гонсало, мой однокашник по литературным вечерам в университете, был уже практикующим адвокатом, а Мутис, будучи начальником по связям с общественностью «ЛАНСА», креольской авиакомпании, основанной своими же летчиками, пригласил Гонсало, чтобы он увидел море.
Стихотворения Мутиса и мои рассказы, по случайному совпадению, печатались вместе как минимум один раз в приложении «Фин де Семана», и нам достаточно было увидеться, чтобы мы завели разговор, который до сих пор не закончился, хотя где мы только не говорили на протяжении более полувека.
Сначала наши дети, а потом и наши внуки нас часто спрашивали, о чем же мы говорим с такой неистовой страстью, и мы отвечали правду: мы всегда говорили об одном и том же.
Мои восхитительные дружбы со взрослыми людьми искусства и литературы воодушевили меня на выживание в те годы, которые до сих пор я вспоминаю как самые неустойчивые в моей судьбе. 10 июля я последний раз напечатал «Точка и новый абзац» в «Эль Универсаль» и через три трудных месяца, в течение которых я так и не смог преодолеть препятствия дилетантизма, я предпочел порвать с этим единственным преимуществом — уйти вовремя. Я нашел убежище в безнаказанности комментариев без подписи в газете, исключая материалы, подразумевающие личное участие. Я работал в газете по инерции до сентября 1950 года. Последняя моя заметка была об Эдгаре По; единственное, что ее выделяло из остальных, так это то, что она была худшей.
В течение всего того года я убеждал маэстро Сабала обучить меня тайным приемам написания репортажей. Он со своим загадочным нравом никогда не решился на это, но оставил меня взвинченным загадкой одной девочки двенадцати лет, которая была погребена в монастыре Санта-Кла-ра, у которой выросли волосы после смерти более двадцати двух метров за два века. Я так и не смог представить себе, как вернуться к этой теме сорок лет спустя, чтобы рассказать ее в романтическом романе с роковыми тайнами. Но отнюдь это не были для меня лучшие времена. По каким-то причинам я впадал в ярость и исчезал с работы без объяснений, пока маэстро Сабала не посылал кого-то, чтобы меня утихомирить. Я выдержал итоговые экзамены второго курса юридического факультета благодаря везению, всего с двумя хвостами, я мог записаться на третий курс, но прошел слух, что это было достигнуто благодаря политическому давлению газеты. Главный редактор вынужден был вмешаться, когда меня задержали на выходе из кинотеатра с фальшивой военной книжкой, а я был в списках призывников на карательные общественные работы.
В моем политическом ослеплении тех дней я не знал даже то, что осадное положение снова было введено в стране из-за ухудшения общественного порядка. Цензура периодических изданий еще больше закрутила гайки.
Обстановка ухудшилась как в самые скверные времена, и политическая полиция, усиленная обыкновенными преступниками, сеяла панику в деревнях. Насилие заставило либералов покидать земли и дома. Их вероятный кандидат Дарио Эчандия, специалист из специалистов по гражданскому праву, скептик от рождения и порочный чтец греков и латинян, высказался за отказ либералов участвовать в выборах. Дорога осталась открытой для выборов Лауреано Гомеса, который, казалось, управлял правительством, дергая за невидимые ниточки из Нью-Йорка.
У меня тогда не было ясного осознания того, что те злоключения были не только низостью правых, но и признаками недобрых изменений в наших жизнях, до бессонной ночи в «Ла Куеве», когда мне пришло в голову хвастаться моей свободой воли, делать то, что мне хочется. Маэстро Сабала задержал в воздухе полную ложку супа, которую собирался отправить в рот, посмотрел на меня поверх дужки очков и неожиданно остановил меня:
— Скажи мне, черт возьми, Габриэль, в разгар государственной тупости, что ты сделал, чтобы понять, что этой стране конец?
Вопрос попал в цель. Пьяный в дым я улегся спать на рассвете на скамью бульвара де лос Мартирес, и библейский ливень промочил меня до костей. Я пролежал две недели в больнице с пневмонией, которая плохо усваивала первые известные антибиотики, пользовавшиеся дурной славой вызывать такие ужасные последствия, как ранняя импотенция.
Истощенного и бледного, мои родители позвали меня в Сукре, чтобы восстановить мое здоровье после чрезмерной работы, как было сказано в их письме. Еще дальше пошел «Эль Универсаль» с прощальной статьей, которую посвятил мне как журналисту и писателю мастерских приемов и как автору одного романа, которого никогда не существовало, да еще и с чужим заголовком: «Мы уже срезали луговые травы».
И это именно в тот момент, когда я как раз отказался от намерения вновь повторять ошибку с написанием придуманных историй. Правда была только в том, что настолько чуждое мне название придумал на ходу Эктор Рохас Эрасо для Сесара Герры Вальдаса, выдуманного писателя, самого чистокровного латиноамериканца, созданного им, чтобы обогатить наши споры. Эктор напечатал в «Эль Универсаль» новость о его приезде в Картахену, а я написал ему приветствие в моем разделе «Точка и новый абзац» в надежде обновить представления о континентальной аутентичной прозе.