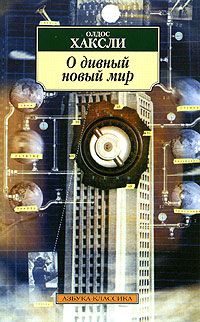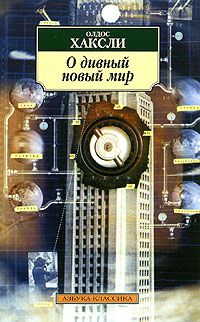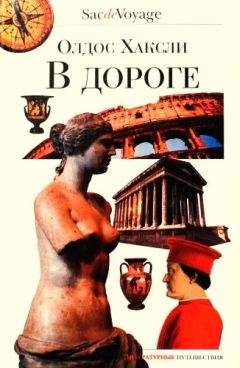Олдос Хаксли - Слепец в Газе
Вслед за этим я анализирую перевод любви в сферу и термины политики. Кэмпбелл и Бэннерман настаивали на восстановительных работах в Южной Африке — посыпалась куча протестов и кассандровские пророчества таких «здоровых и практичных людей», как Артур Бэлфур. Любовь побеждает даже в неуклюжей, искаженной форме политической конституции. «Тот, кто прощает первым, достоин лаврового венка». В Южной Африке англичане простили тех, кого они обманули, что не намного легче, чем простить того, кто обманул тебя, — и таким образом выиграли приз, который никогда бы не получили, веди они долгую насильственную войну. Ни один приз не был завоеван со времени прошедшей войны, потому что ни один из тех, кто воевал, до сих пор еще не простил тех, кого он оболгал, или тех, кто оболгал его. При правильном приложении к ситуации любовь всегда побеждает. Это эмпирически установленный факт. Любовь — лучшая политика. Лучшая не только для тех, кто любит, поскольку любовь всегда конструктивна. Она вырабатывает средства, которыми может осуществляться эта политика. Чтобы продолжать любить, человеку нужны терпение, смелость и выдержка. Но процесс любви порождает эти средства, только пока длится сама любовь. Любовь побеждает, поскольку ради предмета любви тот, кто любит, терпелив и смел.
А что значит быть любимым? Доброта и стремление к доброте во всех человеческих существах — в том числе в тех, кто охотнее других занят тем, что отказывается проявить это стремление к доброте даже по отношению к тем, кто любит. Если любовь достаточно велика, она может изгнать страх даже перед самыми злобными врагами.
Я заканчиваю тем, что перед моим внутренним взором все еще стоит образ доброты — образ матери. Доброта, если ее силы используются в полной мере, есть достигнутый идеал, видимый в своем совершенстве и также заметный в том, как он реализован на практике, в том, как он присутствует в любой ситуации, в которой мы можем оказаться. Ведь в реальности это целый образ мыслей, чувств и переживаний. Это целая система, которую представляю себе достаточно спокойно, во всей ее полноте — представляю ее без слов, без образов, но цельно, как единое простое сущее. Я прорываюсь к ней — и тотчас отступаю обратно в сферу слов и, наконец, обратно (хоть с новыми силами и с большим пониманием, наполнив мозг образами) в обычную жизнь.
17 сентября 1934 г.
Сегодня Элен позвала меня для того, чтобы я помог ей развлечь ее сестру и зятя, только что вернувшихся из Индии. Пришлось надеть вечерний костюм — первый раз за этот год, — потому что Колин не мог позволить себе появиться в театре или в «Савой-гриле» в чем-нибудь кроме белого галстука. Удручающий вечер. Джойс тощая и нездоровая раньше времени. Колин украдкой поглядывает на более стройных и молодых женщин. Она ревнует и постоянно гундит, а он, недовольный тем, что привязан, словно веревкой, к жене и детям, винит ее в собственной излишней строгости, которая не позволяет ему быть распутником, а он хочет им быть. Каждый из них хронически не выносит другого. То и дело подаются признаки дурного нрава и происходят обмены гадкими и злобными словами. У Колина помимо этого другие несчастья. Англия, как показалось, не встретила офицера и джентльмена должным почетом. Извозчики грубы с ним, люди низших классов толкают его на улице. «Они называют Англию страной белых. (Это после второй «маленькой» в театральном баре в антракте.) Это не так. Подавайте мне Пуну каждый раз».
Допустим, у нас у всех будут свои Пуны, убежища от неприятной реальности. Опасность медитации, как все время говорит Миллер, в том, что она становится вот такой лазейкой. Квиетизм[303] может быть простым сибаритством. Силы притягивания очень похожи на мастурбацию. Но такую, которая более возвышенна, которую практикуют мистики-любители, употребляющие священные термины религии и философии. «Созерцательная жизнь». Это может послужить высокоинтеллектуальной заменой Марлен Дитрих[304]: предмет для эротических фантазий в сумерках. Медитация сама по себе вещь ценная, но только если это не приводит к такому приятному концу; только как средство проведения желаемых перемен в личности и образе существования. Вести созерцательную жизнь не значит жить, утопая в роскоши и вожделениях к заманчивой Пуне; это значит жить в Лондоне, но не создавать себе стиль, похожий на кокни[305].
Глава 43
20 и 21 июля 1914 г.
Энтони казалось, что нужный, подходящий момент для того, чтобы сказать Брайану правду (или, по крайней мере, ту долю правды, которую ему было целесообразно знать), никогда не представится сам. Первый вечер был заранее исключен — потому что Энтони чувствовал, что должен повременить, так как Брайан выглядел уж чересчур больным и изможденным. За вечерним ужином и после него Энтони говорил на крайне непринужденные темы. Предметом разговора были «Размышления о насилии» Жоржа Сореля[306] — чтение совершенно неуместное для фабианцев. И видел ли Брайан, как метко попадала в его любимого Бергсона Джульен Бенда? А что он думает о белом стихе Лесли Аберкромби?[307] А о последней публикации Джилберта Кэннана? На следующее утро они вышли погулять к Лэнгдейлскому пику. Оба не собирались тренироваться, но, несмотря на учащенное дыхание и бьющееся, как колеса поезда, сердце, Брайан настаивал с поистине спартанским упорством на том, что Энтони сперва счел нелепицей, а потом издевательством. Когда они вернулись домой, солнце уже было высоко, и они изрядно устали, а Энтони вдобавок терзало возмущение. Отдых и ленч несколько улучшили его настроение, но он все-таки посчитал невозможным обращаться с Брайаном иначе как с мужчиной, все ему прощать, но тем не менее сохранять достоинство. Достоинство, однако, было несовместимо с тем, чтобы поведать ему всю правду. Вечер они провели в тишине — Энтони читал, а Брайан беспокойно бродил по комнате, словно подыскивая повод заговорить — повод, который не давали ни Энтони, ни и царивший вокруг него дух крайней занятости.
Следующим утром Энтони внезапно разбудила тревожная мысль о том, что время шло, и не только для него, но также и для Джоан и для Брайана. Нетерпение Джоан могло заставить ее забыть об обещании ничего не писать Брайану, и, кроме того, чем дольше он оттягивает неизбежное объяснение, тем хуже Брайан будет о нем думать.
Сославшись на нездоровье, он позволил Брайану выйти одному и, глядя, как тот упорно штурмует отвесный склон за усадьбой, сел за стол, чтобы написать письмо Джоан. Или, скорее, попытаться написать его, поскольку каждый из набросков, которые он делал, содержали один из двух недостатков, и каждый из этих недостатков подвергал его, как он понимал, некоторой опасности. Если он станет слишком настаивать на уважении и привязанности, которые подогрели его так, что он потерял голову в тот проклятый вечер, она ответит, что настолько сильные уважение и привязанность уже походят на любовь, а посему оправдывают его предательство Брайана, ибо любовь покрывает все. А если он станет слишком сильно напирать на потере головы и временном безумии, она почувствует себя оскорбленной и пожалуется Брайану, миссис Фокс, своим родственникам, поднимет шум и в бешенстве назовет его подонком, совратителем и еще бог знает кем. Проведя три часа и испортив с дюжину листов бумаги, он понял, что лучшее из того, что он сотворил, отсылать стыдно. Он сердито отложил это письмо в сторону и в состоянии гнева начертал грозное послание Мери, полное упреков. Проклятая женщина! Это она должна ответить за все. «Намеренная злоба…» «Бесстыдно эксплуатировала мою любовь к тебе…» «Обращаясь со мной, как с каким-то животным, ты могла издеваться ради собственного удовольствия…» Фразы так и сыпались с его пера. «Это прощание, — заключил он, и наполовину уже сам верил в то, что он в сердцах написал. — Я не желаю больше тебя видеть. Никогда». Но ссору, думала вторая его половина, всегда можно уладить: он ее проучит, и затем, если она будет себя хорошо вести, если он почувствует, что не может без нее, то… Он запечатал письмо и тут же отправился на местный почтамт, чтобы его отправить. Этот решительный поступок мог поправить его чувство собственного достоинства. По дороге домой он задумал, на этот раз вполне определенно, привлечь Брайана к разговору этим вечером и затем, уже зная его реакцию, снова попробовать написать письмо Джоан на следующее же утро.
Брайан вернулся к шести часам, объятый ликованием оттого, что прошел еще дальше и взобрался на вершины еще большего количества гор, чем в прошлый раз, но выглядел он, несмотря на всю его радость, совершенно измочаленным. Увидев его так давно знакомое лицо, теперь трагически изможденное и понурое, хотя и излучавшая диковатую улыбку, Энтони почувствовал сильный прилив тех же чувств, которые он испытал в первый же вечер: заботливое участие к старому другу, искреннее сочувствие его страданиям — и вместе с этим невыразимое чувство вины перед ним, ответственность за его судьбу. Моментальное признание могло бы уменьшить его боль и в то же время позволило бы ему выразить свои чувства, но он колебался и не говорил ни слова. И через несколько секунд, в ходе почти моментального химического процесса, произошедшего в его психике, сочувствие и участие соединились с чувством вины и образовали гнев. Да, он определенно злился на Брайана за то, что тот выглядел таким усталым, за то, что он уже был таким несчастным, и за то, что станет еще более несчастным в тот момент, когда ему будет поведана правда.