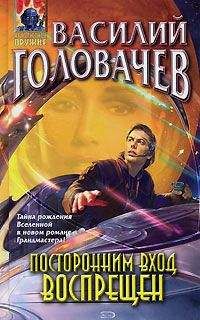Евгений Водолазкин - Похищение Европы
Вечером того дня мы все втроем приехали домой к Насте. Нас встретили ее родители и замечательная бабушка (это слово по-русски знал даже Анри). Все трое — не исключая бабушки — говорили с нами по-английски, так что трудностей в общении мы не испытывали. Настина бабушка меня очаровала. Она была уже в том возрасте, когда выражение лица зависит не столько от воли или умения владеть собой, сколько от состояния души. Еще в доме я заметил, что в какой-то период своей жизни люди перестают играть, обнаруживая все большее равнодушие к тому, что их окружает. На лицах их раз и навсегда застывает наиболее свойственное им выражение. Так, фотографические портреты прежних лет отличаются от современных своей неслучайностью: вдохнув перед магниевой вспышкой, снимавшийся запечатлевал не только себя нынешнего, но и прошлого, может быть, даже — и будущего. Таким же «равнодействующим» всех прежде бывших выражений становится выражение лица стариков. Таким оно было и у Настиной бабушки. Вспоминая сейчас ее лицо, я понял, что оно мне напоминало: лицо английской королевы-матери, не выражавшее ничего, кроме доброты.
Рассматривая исподтишка Настиных родителей, я пытался понять степень их присутствия в облике Насти. Рыжим (очень рыжим) был отец, и хотя это пламя было основательно сбито светло-русыми волосами матери, происхождение Настиных волос не вызывало сомнений. Что же касается черт лица — здесь все было не так просто. Было что-то общее и с отцом, и с матерью, но в чем оно состояло, я так до конца и не понял. Дело осложнялось тем, что Настины родители были похожи друг на друга: так бывает. Люди либо влюбляются в подобных себе, либо становятся подобными от долгой совместной жизни. Друг на друга они были похожи даже больше, чем на Настю: оба худые, невысокие, в очках, с несколько мелкими чертами лица. Ее отец был монголоведом и работал в Музее этнографии. В свете их общей симметрии ничего не было удивительного в том, что тем же занималась и Настина мать. Не такими я представлял себе монголоведов.
Это были милые и стеснительные люди. Как мне показалось, они стеснялись не столько своего скромного быта, сколько нового Настиного положения и ее фотографий, напечатанных в русских газетах рядом с моими. Они не знали, что со всем этим делать, и на многочисленные телефонные звонки отвечали, как бы извиняясь за неожиданно свалившуюся на них славу. Не исключаю, что немалая доля их стеснения была связана непосредственно со мной, человеком, имеющим какие-то отношения с их дочерью, — это им, разумеется, уже было известно. Неизвестен им был лишь характер этих отношений, и потому они не очень представляли, как им со мной держаться. Я же, которому из всех присутствующих и полагалось бы стесняться в первую очередь, был совершенно спокоен. Я так любил Настю, что не мог себе представить отторжения со стороны тех, кто являлся ее продолжением или, точнее, началом. Не скрою, в тот вечер я старался понравиться, и, думаю, мне это удалось. Сидя за столом Настиных родных, я испытывал состояние, близкое к счастью, для меня это был еще один — и очень важный — шаг к сближению с Настей.
Телефон (его в конце концов все-таки отключили) стоял на письменном столе у окна, и, беря трубку, Настя присаживалась на подоконник. Я любовался ее профилем на фоне Невы и идеально ровной линии домов на противоположном берегу. Это был знаменитый Васильевский остров. За окнами было не просто светло: на хмуром в течение всего дня небе вдруг показалось яркое, хотя уже и тронутое красным солнце. Оно светило нам часов до одиннадцати, пока, закатившись куда-то за дома, не уступило место синеватому полумраку. В Петербурге была пора знаменитых белых ночей.
Настина квартира поразила меня обилием книг. Они были расставлены по деревянным самодельного вида полкам, горой лежали на письменном столе и даже в одном из углов гостиной. Помимо книг, на полках находилась масса разных предметов: фотографий, статуэток, открыток, акварелей и много чего другого — составлявших, несмотря на некоторые различия, один общий мелкий род. Все это мне напомнило дом князя, из чего я сделал про себя вывод, что речь идет об особом русском стиле. В отличие от немецких и вообще западных квартир, не стесняющихся пустых стен, каждый квадратный сантиметр Настиных стен был увешан портретами, картинами, рисунками и всем тем, что не поместилось на книжных полках. Думаю, что одна только мысль о том, что все это пришлось бы снимать, а затем вновь развешивать, убивала всякую надежду на необходимый квартире ремонт. Островки обоев, мелькавшие порой между тесно развешенными картинами, выглядели довольно блекло.
И я, и Настя время от времени посматривали на Анри, испытывая примерно одни и те же чувства. То, что Анри проводил вечер с Настиными родными, было хотя и необычно, но не выходило само по себе за границы возможного (в конце концов, кому только и с кем не случается проводить вечера). Изумляло то, как естественно и легко он общался с ними, особенно с бабушкой. Он расспрашивал ее о жизни в советском Ленинграде и о немецкой блокаде, которую она пережила здесь девочкой. Медленно подбирая английские слова, она рассказывала о блокаде в натуралистических подробностях, что могло бы походить на эпатаж, если бы не ее невозмутимый, почти умиротворенный тон. Она описывала сосульки из экскрементов, висевшие на окнах елочными игрушками (канализация уже не работала): дойти до улицы не было сил, и горшки выливались через окна. Рассказывала, как умершего в январе отца они с матерью зашили в простыню и положили на балкон. Там он пролежал месяц, а они получали его хлебные карточки, чтобы расплатиться ими за похороны. Они не хотели хоронить его в общей могиле.
Неожиданно выяснилось, что Анри воспитывала бабушка. А детство он, оказывается, провел в деревне. Он вдруг рассказал это Настиной бабушке, положив ладонь на ее руку. Я вспомнил этот жест — его ладонь на моей руке — в вечер нашего знакомства в Париже. Даже тогда он был менее удивительным, чем сейчас. Анри невозможно было представить бабушкиным внуком, о чем я ему тогда и сказал.
— Тем не менее, — он наклонил голову, — это так. Достигнув определенного успеха, принято рассказывать о трудном детстве, это слабость всех self-made men. Я не хочу этого делать. Но бабушка была, тут уж никуда не денешься, и я ее очень любил.
Как ни крути, я не мог вообразить себе неведомую фламандскую бабушку, воспитавшую Анри. Это должна была быть какая-нибудь особенная бабушка.
После полуночи мы поехали смотреть, как разводятся мосты. Их центральные пролеты поднимались быстро и — что меня удивило — беззвучно. Мне казалось, что мост (что может быть неподвижнее моста?) в своем движении должен издавать какой-то особый скрежет наподобие сошедшего с пьедестала памятника. Не издавал. Правда, на набережных было так много народу, что я мог чего-то не услышать. Мы стояли у гранитного парапета и смотрели, как большие морские суда шли вверх по Неве к неведомому мне озеру Ладога. Все эти корабли повстречались нам еще раз, когда наша машина обогнала их в поисках еще не разведенного моста. Переехав на нужную нам сторону Невы, мы направились в гостиницу.