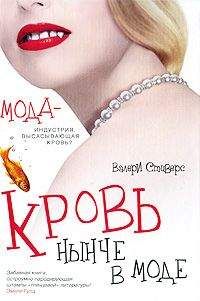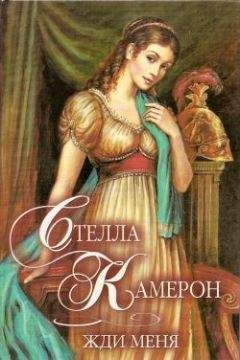Владимир Гусев - Дни
— Это ты зря, — сказал он с раздражением мужика, которому уж надоедает женщина, но он еще вежлив, «совестлив».
…Во всяком случае, теперь хотя бы ясно стало, почему она появилась на не своем этаже…
— Да ведь Коля, — начала она примирительно (известное дело!), усаживаясь на кровать напротив и глядя то на него, то на меня — как бы за поддержкой: тоже известное дело. — Да ведь Коля; ну, поймите, ребята. Ну, вот я вижу… как вас?
— Алексей.
— Ну, вот я вижу, Алеша ее любит. (Она употребила именно это слово; не знаю — раньше его, этого слова, как-то вот эдак на проходе не было средь людей. Это слово, в таком контексте, вообще не в нашем духе; говорили — «жалею», «присохла к тебе» — да мало ли. Любовь — это слово было предельно ответственным; лишь в самом крайнем, грозном случае шло оно в ход. А теперь — от телевидения, что ли.) Ну, вот я вижу, Алеша ее любит, Ирку. Да ведь б… она! — сказала она с народной четкостью и не сознающей себя беспощадностью, которая обо всем позволяет говорить просто; тут есть свои неудобства для слушателей; но есть и свои великие преимущества.
Я невольно улыбнулся; хотя улыбка моя, я думаю, вышла кривой. Но Маша не обратила внимания на эти тонкости. Впрочем, если она косвенно хотела кольнуть и «отвадить» и Колю, то вряд ли попала в цель; такое известно про мужиков, и уж особенно Машам, но все же они слабы: сбиваются на «дешевку», хотя это и против них самих: и в смысле морали, и в смысле дела.
Может, снова почувствовав все это, а может, и без задних мыслей, Маша продолжала, уж обращаясь, и внешне и внутренне, лишь ко мне:
— Ну, сам посуди, Алеша. Ну, на кой она тебе? Ведь это если так… а то ведь что ж. Вот и будешь бегать за ней? За этими не убе́гаешь. Тут надо помнить. Я знаешь каких ребят знала, а свихнулись вот на этих. Они там… а ты будешь под дверью, что ли? Так, что ли?
Она желала уж слышать ответ.
— Пойми, Маша, она вдрызг пьяная, а они этим пользуются, — с улыбкой отвечал я. — Только о том и речь.
— Да какая она пьяная? Ох, любишь ты ее, вот и… эдак. Мудришь ты. Какая она пьяная?
— Ну, пьяная-то она, положим, пьяная. Дело в степени.
— Вот-вот. Эт-ты верно. В сте-пе-ни. А степень у нее… самая та. Не пьяная она та́к, чтоб… Да что́. Ты сам должен знать.
— Все-таки я мужчина, я ее привез сюда, и я должен бы и увезти; вот это меня и волнует. Тем более что и она, до всего, просила, чтоб я ей не дал остаться, — добавил я, хотя и не был уверен в этом.
— Это мы знаем; это всегда просят, а потом говорят, зачем ты меня не увез. Ты же и виноват, — живо поддержала Маша. — Только она знала, что она не уедет.
— До этого мне нет дела; а я обещал, я и должен.
Все это я, в данный миг, говорил уже скорей просто так, чем по сути; хотя мысль сейчас уехать одному, оставив ее там, в том виде, вновь казалась мне чудовищной и невозможной; лучше самоубийство: сейчас казалось.
Но Маша приняла мою мысль практически; она взяла из нее только то, что я все равно не уеду, пока Ирина здесь. (Это я понял быстро, но, надо сказать, не сразу.)
— Б… она, оставь ее, — жестоко-спокойно повторила она.
— Но я же ее привез? — «спокойно» же — улыбаясь — повторил я.
— Ну, тогда мы ее сейчас выкинем, — заявила она с той неожиданностью поворота в бесповоротном решении, которая свойственна людям ее склада. — Раз ты хочешь, щщас мы ее выкинем. Пошли.
— Пошли.
Мы снова потянулись по всем этим лестницам, коридору.
Маша неуловимо пошла вперед.
— Ее там нет, — сказала она, выходя навстречу.
Так и не знаю: успела предупредить?
Но вроде мы с Колей шли следом, а коридор — до того угла, о котором будет речь, — был длинен и весь просматривался; не знаю. Не все ли равно?
Все равно, ибо что Ирина могла сбежать и от этого малого, я мог предположить; а что Маша могла их предупредить, так тоже могла.
Если второе, то был просчет; Маша должна была сразу сказать, будто Ирина уехала домой, а не отвечать на мое:
— Где же она?
— А кто ее теперь знает.
Итак, мы с Колей задумчиво побрели по коридору этого, снова, девятого этажа; добрели до угла — за углом стояла Ирина.
Она стояла у самого угла, выпятив свои знаменитые, обтянутые кофтой груди, — и прижавшись спиной к стене: эдак по-детски иль по-шпионски; ладони к стене.
Она смотрела; мы помолчали подавленно.
— Ирина! Ты от меня, что ли, прячешься? Тогда я уеду, — сказал я почти растерянно; быть смешным — эта функция жизни, рано или поздно настигающая, должна быть переносима так же, как и иные, — менее печальные функции; ибо ведь быть смешным — одна из самых печальных. Да, ее надо переносить так же, иначе мы погибли как духовные существа; век доказал это. Если он что и доказал, так — это и еще некое: по части трагедии, прочности и динамизма. Но это в сторону… Но не каждый готов к этой «функции» немедленно; а ведь она тем и она, что настигает, обычно, именно «нежданно-негаданно»: как бы вдруг приходит из иной плоскости жизни.
Но не всякий, повторяю, готов; но оказалось, что я-то — готов.
Или почти готов.
— Ирина, ладно; давай я уеду, — повторил я настолько мягко, насколько мог.
Она молчала, глядела — тем самым как будто бы подтверждая.
Я думаю, что, если бы тем и кончилось этой ночью, оно было бы лучше: ясность рождает ясность. А ясность — начало освобождения.
Так нет же — она вдруг как бы очнулась и отвечала:
— Нет, подожди, Алеша. Ладно уж, Алеша. Я кругом виновата. Не что об этом говорить. Ведь слова… Что́ об этом теперь говорить. Ты подожди; мы сейчас уедем.
И снова: и что́ же я должен был делать?
Разбирать, сбежала она сей миг от меня или от того?
Женщина — она женщина, что́ бы ни говорила.
— Ну, пойдем.
Держа ее эдак, как больную, за талию, веду ее — поворачиваем за угол; идем; на выходе из коридора к лестнице эти, конечно, ждут.
— Ира!
— Э, ребята, — говорю я. — Теперь уж она С ВАМИ не хочет. Драться будем?
— Да нет, друг; зачем драться. Ира!!
— Идите, ребята. Не будем мы, правда, драться. Видите — баба в каком виде… и состоянии. Она сама не знает, чего́ она хочет… Отвезу я ее домой. К ней домой. Я отвезу, а вы уж идите.
— Ира!!
Это, кажется, тот — чернявый. Вроде цыгана, но хилого.
— Ира… ну не уезжай… ну, я без тебя… ну, без тебя… ну, я пропаду без тебя.
Это все он же.
— Хватит врать-то.
Это она: спокойно.
— Ну, я не вру, Ира… Ну, Ира… Ну, я без тебя… ну, я не могу без тебя жить.
— Ладно, друг. Ирина… едем.
Это я.
— Едем.
— Ира… Ира…
— Знаешь, Алеша, может, не надо мне сейчас ехать. Не поеду я.
Мне видна вся игра — но что́ я могу сделать?
Тоже начать — «Ира, Ира»?
Ты меня знаешь.
…Я кивнул Алексею…
…Подозревая, что люблю «Иру» все-таки более, чем этот чернявый, я в то же время чувствовал, как с каждой секундой теряю, как говорится, шансы; но злоба уже поднималась во мне — я уж ничего не мог сделать.
Злоба на что?
Не знаю точно.
Злоба на «слепоту и лживость» женской натуры (кто ее все же более любит? кто все же внутренне более одинок и жалок и близок к пресловутому самоубийству — я или этот, чернявый?! Я или он?..), на глупость жизни, на бессилие — бессилие, бессилие — человека, на себя самого, на смешные стороны своего положения, на «подлую» Машу, даже на сочувствующего (ага, сочувствуешь «свысока»?!) Колю, который и «помогает»-то мне «из самоутверждения», на попранную во мне и самим мною мужскую природу — злоба на всех, на всё; и два (три?) часа ночи, и бред, и усталость, и «нервы», и глупость, и черт-те что; злоба на всех, на все; и — снова непостижимым образом! — я не начал драться, я никого не убил, — а лишь сказал угрожающе:
— Едешь или нет?
Едешь или нет, черт возьми?
— Едешь, б… ты такая? — уж заорал я этими второй-третьей фразами.
— Нет, не еду, — отвечала она едко — «спокойно», пьяно.
— …с тобой, — сказал я, повернулся и пошел; но тут и Коля совершил глупость.
Пока мы говорили, мы как-то все же двигались к лестнице; и тут Коля, желая показать лихость, схватил Ирину по-мужски в охапку и потащил вниз по лестнице.
— Отпусти. Отпустите, дураки, — говорила она. — Меня этим не проймешь. Я это все… видела. Я это все… знаю. Да отпусти же, подлец.
Она вертнулась эдак у него на руках — они грохнулись оба на лестнице; неизящно мелькнуло что-то «нижнее» — реальная судьба равнодушна к «эстетической стороне» таких ситуаций; мы четверо (те двое, Маша и я) в некоей задумчивости взирали с верхних ступеней на все это; благо, что они не скатились; Коля — бордовый свитер — разумеется, вскочил первый, помог подняться; она встала довольно спокойно и — спокойно сказала: