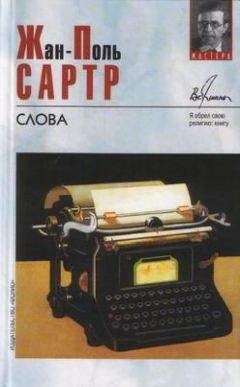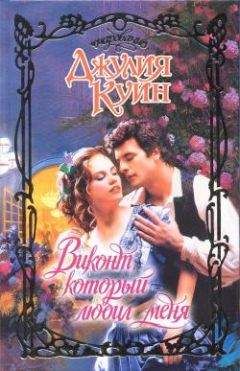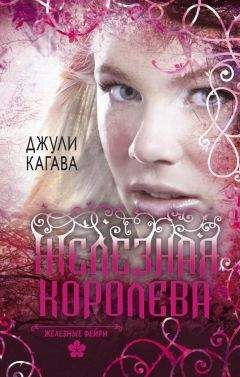Жан-Поль Сартр - II. Отсрочка
— Я счастлива, Элла, дочь моя, дитя мое, я счастлива. Под окном краснолицый молодой парень хохотал как сумасшедший, он налетел на крестьянку и расцеловал ее в обе щеки. Она тоже смеялась, вся растрепанная, со сползшей назад соломенной шляпой, и кричала «Ура!» между поцелуями. Жак поцеловал Одетту в ухо, он ликовал:
— Мир! Теперь они наверняка не ограничатся урегулированием судетского вопроса. Пакт четырех держав. Именно с этого надо было начинать.
Горничная приоткрыла дверь:
— Мадам, я могу подавать?
— Подавайте, — сказал Жак, — подавайте! А потом сходите в погреб за бутылкой шампанского и бутылкой шамбертена.
Высокий старик в темных очках вскарабкался на скамью, одной рукой он держал бутылку красного, другой — стакан.
— Стакан вина, парни, стакан вина за мир!
— Мне! — крикнул слесарь. — Мне! Да здравствует мир!
— Ах, господин аббат, я вас поцелую!
Кюре попятился, но старуха опередила его и в самом деле поцеловала, Грессье погрузил разливательную ложку в супницу: «Ах, дети мои, дети мои! Кончился этот кошмар». Зезетта открыла дверь: «Значит, это правда, мадам Изидор?» «Да, детка, правда, я сама слышала, так сказали по радио, ваш Момо вернется, я же вам говорила, что небо над вами сжалится». Он затанцевал на месте, сдрейфил, сдрейфил, Гитлер сдрейфил; я-то думаю, что это мы сдрейфили, но как мне на это наплевать, раз мы не воюем, но нет, но нет, я был предупрежден, в два часа я все скупил, это двести тысяч векселей, послушайте меня, мой друг, это ис-клю-чи-тель-но-е обстоятельство, в первый раз война, казавшаяся неизбежной, предотвращена четырьмя главами государств, значимость их решения далеко превосходит текущий момент: теперь война уже невозможна, Мюнхен — первый вестник мира. Боже мой, Боже мой, я молилась, я молилась, я говорила: «Боже, возьми мое сердце, возьми мою жизнь», и ты внял моей мольбе, Боже мой, ты самый великий, ты самый мудрый, ты самый добрый», аббат высвободился — но я вам всегда это говорил, мадам: бог всеблаг. А эти чертовы чехи пусть сами выпутываются. Зезетта шла по улице, она пела, все птицы в моем сердце, у людей были добрые улыбающиеся лица, они молча здоровались друг с другом, даже если не были знакомы. Он знал, она знала, они знали, что знают все, у всех была одна и та же мысль, все были счастливы, оставалось только быть вместе со всеми; прекрасный вечер, эта женщина, которая идет мимо, я читаю в глубине ее сердца, а этот добрый старик читает в моем, все открыто всем, все составляют одно целое, она заплакала, все любили друг друга, все были счастливы, и Момо там, со всеми, он должен быть все-таки доволен, она плакала, все смотрели на нее, и это грело ей спину и грудь, чем больше все эти люди на нее смотрели, тем больше она заливалась слезами, она чувствовала себя гордой и щедрой, как мать, кормящая грудью свое дитя.
— Ну и здорово же ты пьешь! — заметил Жак. Одетта вдруг рассмеялась. Она сказала:
— Думаю, скоро резервистов демобилизуют?
— Через две недели или через месяц, — предположил Жак.
Она снова засмеялась и сделала еще глоток. Внезапно кровь прилила к ее щекам.
— Что с тобой? — спросил Жак. — Ты стала совсем пунцовой.
— Пустяки. Просто я выпила лишнего.
Я бы никогда его не поцеловала, если бы знала, что он так быстро вернется.
— Садитесь, садитесь!
Поезд медленно тронулся. Люди, крича и смеясь, побежали к нему; они гроздьями висли на подножках. В окне появилось лицо слесаря, он двумя руками цеплялся за подоконник.
— Черт возьми! — кричал он. — Подсобите мне, а то я сорвусь.
Матье подхватил его, и тот, перекинув ноги через подоконник, спрыгнул в коридор.
— Уф, — выдохнул он, вытирая лоб. — Я уж думал, что оставлю там обе ноги.
Тут появился скрипач.
— Что ж, все в сборе.
— Сыграем в бел от?
— Согласен.
Они вернулись в купе; Матье через стекло смотрел на них. Они начали с того, что выпили красного, затем стряпчий вынул платок и разложил его на коленях.
— Тебе сдавать. Слесарь громко пукнул.
— Прямо в небо полетела! — пошутил он, показывая на воображаемую ракету на потолке.
— Фу, козел! — весело сказал наборщик.
«Что они здесь делают? — подумал Матье. — А я, что здесь делаю я?» Их судьбы разметались, время снова потекло наугад, без цели, по привычке; вдоль поезда тянулась равнодушная дорога; теперь она больше никуда не вела, это была всего лишь полоса асфальтированной земли. Самолеты исчезли; война исчезла. Бледное небо, становившееся все более мирным к вечеру, оцепенелая долина, игроки в карты, спящие пассажиры, разбитая бутылка в коридоре, окурки в луже вина, сильный запах мочи, все эти ординарные остатки… «Как на следующий день после праздника», — подумал Матье со сжавшимся сердцем.
Дус, Мод и Руби поднимались по улице Канебьер. Дус была очень оживлена: у нее всегда была склонность к политике.
— Кажется, это недоразумение. Гитлер думал, что Чемберлен и Даладье строили против него козни, а в это время Чемберлен и Даладье опасались, что на них нападут. Но их собрал Муссолини и дал им понять, что они ошибаются; теперь все улажено: завтра они все четверо обедают вместе.
— Какая пирушка, — вздохнула Руби.
У Канебьеры был праздничный вид, люди шли мелкими шагами, некоторые смеялись. Мод хандрила. Конечно, она была довольна, что все так хорошо уладилось, но она особенно радовалась за других. Как бы то ни было, она проведет еще одну ночь в вонючей клетушке отеля «Женьевр», а потом вокзал, поезда, Париж, безработица, скверные столовые и боли в желудке: встреча в Мюнхене, каков бы ни был ее исход, ничего не изменит. Ей было одиноко. Проходя мимо кафе «Риш», она вздрогнула.
— Что случилось? — спросила Руби.
— Это Пьер, — ответила Мод. — Не смотри. Он за третьим столиком слева. Ну вот, он нас увидел.
Пьер встал, он блистал в льняном костюме, у него был весьма мужественный и вальяжный вид. «Конечно, — подумала она, — теперь-то опасность миновала». Пока он шел к ней, она попыталась восстановить в памяти его зеленое лицо в той пропахшей рвотой каюте. Но запах и лицо выдуло морским ветром. Он поздоровался с ней, он казался абсолютно в себе уверенным. Она хотела повернуться к нему спиной, но дрожащие ноги понесли ее к нему помимо воли. Он, улыбаясь, сказал ей:
— Значит, мы вот так расстаемся, даже не выпив рюмки? Она посмотрела ему в лицо и подумала: «Трус». Но этого не было заметно. Она видела его насмешливые, смело сжатые губы, мужественные щеки, выступающее адамово яблоко.
— Пошли, — прошептал он. — Все это старая история. Она подумала о гостиничном номере, пропахшем нашатырным спиртом. Она сказала:
— Тогда пригласи Дус и Руби.
Он подошел к ним и улыбнулся. Руби он нравился, потому что был изысканным мужчиной. Три цветка сели кружком на террасе кафе «Риш». Это была целая цветочная клумба, цветы, солнечные оживленные лица, знамена, фонтаны, солнце. Она опустила взгляд и глубоко вздохнула: у нее перед глазами вращалось солнце, нельзя судить о человеке только по приступу морской болезни. Для нее тоже наступил Мир.
«Почему они меня не любят?» Он был один в сером помещении, он наклонился вперед, положив локти на колени, поддерживая руками тяжелую голову. Рядом с собой на скамейку он положил сандвичи и поставил чашку кофе, которые в полдень ему принес полицейский; зачем есть: все кончено. Его захотят силой взять в армию, он откажется, это означает либо виселицу, либо все двадцать лет тюрьмы; так или иначе, его жизнь кончилась здесь. Он смотрел на нее с глубоким удивлением: от начала до конца неудавшаяся затея. Его мысли текли направо и налево, бесцветные и жидкие: одна оставалась неизменной, вопрос, на который не было ответа: почему они меня не любят? В соседней комнате раздался взрыв смеха, полицейские веселились. Кто-то низким голосом крикнул:
— Это надо обмыть!
Возможно, есть полицейские, которые любят друг друга, или люди на улице и в домах, они улыбаются друг другу, они помогают один другому, они разговаривают друг с другом почтительно и вежливо, вероятно, есть среди них такие, кто любит друг друга изо всех сил, как Зезетта и Морис. Наверно, все потому, что они старше: у них было время привыкнуть друг к другу. Молодой человек — это путник, который ночью заходит в полупустое купе: люди его ненавидят и рассаживаются так, чтобы он подумал, будто места нет. Однако мое место обозначено, потому что я родился. Иначе я просто гниль. Полицейские за дверью снова засмеялись, один из них произнес слово «Мюнхен». Улицы, дома, вагоны, комиссариат: доверху переполненный мир, мир людей, и Филипп не мог туда войти. Он на всю жизнь останется в камере вроде этой, в норе, которую люди придерживают для тех, кого не признают. Он увидел маленькую женщину, полную и смешливую, с гладкими руками, наложницу. Он подумал: «Как бы то ни было, она будет носить по мне траур». Дверь вдруг открылась, и вошел генерал. Филипп отодвинулся на скамье в самый темный угол и крикнул: