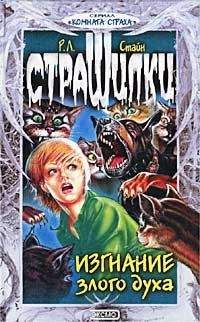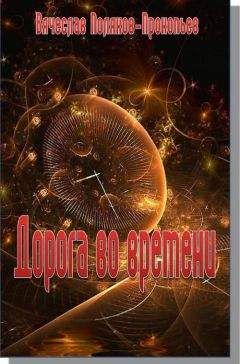Мэтью Томас - Мы над собой не властны
Она побежала дальше. Сердце мучительно колотилось. Почти догнав незнакомку — они уже миновали ресторан «Крейвенс», — Эйлин замедлила шаг, чтобы немного отдышаться и не показаться полной истеричкой, когда заговорит.
Поравнявшись наконец с незнакомкой, Эйлин пошла быстрее, свернула за угол и в обход всего квартала вернулась к своей машине. Там опять передумала и решила объехать кругом — вдруг еще не поздно. Эйлин выйдет из машины и просто постоит рядом с той женщиной, если заговорить не решится. Может, той женщине станет от этого хоть чуточку лучше. И в самом деле, она увидела незнакомку почти на том же месте, где обогнала ее. После секундного колебания Эйлин проехала мимо. От стыда и растерянности она вместо обычного своего маршрута поехала домой какими-то задворками. А та женщина пусть сама справляется со своими горестями. Такова жизнь, и нечего делать вид, будто может быть иначе.
64
Приближался день отъезда Коннелла. Мама велела ему сводить отца куда-нибудь погулять. Обычные их места — бейсбольные тренировочные площадки — исключались, а на стадионе «Шей» сегодня матча не было. Коннелл повел отца в Метрополитен-музей — ничего другого просто не придумал.
В вестибюле толпились люди, спасающиеся от дождя.
— Совсем как зал ожидания на вокзале, — сказал отец.
Коннелл поразился уместности сравнения и вдруг вспомнил, как они много лет назад стояли на ступенях перед входом в Метрополитен-музей. «Вот почему у нас великая страна! — сказал отец, держа в руке две монетки по двадцать пять центов. — Филантропы прошлого, люди прозорливые и с широкой душой, подарили нам возможность любоваться бесценными произведениями искусства, заплатив столько, сколько каждому средства позволяют». Сам он, впрочем, заплатил рекомендованную цену полностью.
Коннелл провел его вверх по бесконечной лестнице. Они остановились перед картиной под названием «Гольфстрим», изображавшей человека на палубе крошечной парусной лодочки со сломанной мачтой посреди бурного моря. Вокруг лодки кружили акулы, а человек лежал, опираясь на локоть, словно воплощение безмятежного покоя — или, быть может, безграничной покорности судьбе.
— Уинслоу Хомер, — сказал отец.
— Ты его знаешь?
— Один из моих любимых художников. Как-то в детстве мне попалась книга о нем, в библиотеке на Юнион-стрит. Я понятия не имел, кто это такой, просто понравилась картинка на обложке. Я потом эту книгу держал у себя несколько месяцев.
— А я не знал...
Удивительно, отец еще помнит эстетические впечатления детства. У Коннелла защемило сердце, когда он представил, сколько дней они провели на разных этажах одного и того же дома. И захотелось самому стать когда-нибудь человеком, который задумывается о том, что приносит людям радость.
— В какую передрягу попал, — сказал отец. — Интересно, что он делал, когда попадал в передрягу?
— Кто? — спросил Коннелл. — Хомер? Или этот тип в лодке?
Отец только кивнул:
— Какое счастье, что художники пишут картины. Иначе у нас бы совсем ничего не было.
— Ну, может, не совсем ничего! — засмеялся Коннелл.
На улице лил дождь. У отца дрожали руки. Коннелл, держа его под руку, помог спуститься по скользкой от воды лестнице. Дождь хлестал со всех сторон сразу.
На последней ступеньке отец остановился, к большой досаде Коннелла, которому хотелось поскорее спрятаться от жалящих капель. В сероватой мгле отцовское лицо было не разглядеть за капюшоном дождевика и мокрыми очками.
— Что случилось? — спросил он, и тут сквозь пелену дождя сверкнула белозубая улыбка.
— Как красиво!
— Что?
— Всё, — ответил отец, широким жестом поведя рукой.
Коннелл зашел в отцовский кабинет за кассетой и увидел, что отец застывшим взглядом рассматривает свои дипломы. С краю полки несколько книг повалились плашмя. Коннелл поставил их прямо. Все книги покрывал тонкий слой пыли.
Пару часов спустя, когда он принес кассету обратно, отец сидел в той же позе. Коннелл сперва подумал — спит, но он по-прежнему смотрел на стену. Коннелл спросил, о чем он думает.
— Сколько труда, наверное, на них потрачено, — сказал отец.
Когда пришло время ехать в аэропорт, откуда Коннелл впервые в жизни улетал в Чикаго, мама была на работе. Могла бы и отпроситься... Коннелл взвалил на спину рюкзак, повесил на каждое плечо по тяжелой спортивной сумке и отправился на станцию. Отец собирался в церковь, так что они вышли вместе.
Глядя с пешеходного мостика через шоссе Спрейн-Брук-парквей на поток машин, идущих в обе стороны, Коннелл подумал, что подробная схема автомобильных дорог похожа на карту рек или рисунок системы кровообращения. Он застрял на несколько минут, погрузившись в созерцание и чувствуя, как зарождается какая-то мысль, пока что неясная ему самому. Она еще оформится, когда он будет в университете, вдали от дома, где разум сковывают привычные рамки. Тогда рассеются ложные представления, навязанные личной биографией, и прежний опыт озарится светом чистого разума.
Ближе к станции, на мосту через реку Бронкс, отец, в свою очередь, остановился, перегнувшись через каменный парапет. Коннелл сперва подумал, что мысли отца заблудились неведомо где, а потом ему пришло в голову — уж не передразнивает ли тот его? Поставив одну сумку, он потянул отца за рукав.
— Ну пап! — Коннелл не думал, что прозвучит так раздраженно.
Отец покачал головой и указал на воду.
— В чем дело? Что там?
Тут Коннелл увидел: внизу, на камне, грелась на солнышке лягушка. Может, это было ее обычное место и отец уже видел ее раньше, а сейчас вспомнил и посмотрел опять. Он, кажется, радовался, что Коннелл видит лягушку вместе с ним. Отец захлопал в ладоши, и лягушка скакнула в реку — только круги пошли по воде.
За полквартала до станции Коннелл увидел подъезжающий поезд 12:23. Можно еще успеть, если бегом. Отец побледнел от жары, сутулился и нетвердо держался на ногах. Годился и следующий поезд, в 12:55, и даже через один. До вылета оставалась еще куча времени.
Коннелл провел отца под железнодорожным мостом к кафе, где зависал все лето, — «Раб кофемолки».
— Два крышесноса, — сказал он, подойдя к стойке, и моментально почувствовал себя идиотом.
Отец, если и заметил, вроде не обиделся. Коннелл купил на двоих одну булочку из кукурузной муки и отвел отца к дальнему столику.
— Грустно уезжать так далеко...
— Что грустить, — ответил отец. — Развлекайся. Изучай то, к чему душа лежит.
— Я буду по тебе скучать.
— Брось! Живи своей жизнью.
Машины за окном дышали отраженным жаром. Солнце немилосердно палило с безоблачного неба. Город пульсировал накопленной за лето энергией. До поезда 13:23 оставалось еще двадцать минут.
— Ты домой-то нормально доберешься?
Отец кивнул. Они пошли к станции.
— А в церковь ты так и не попал.
— Здесь не хуже. — Отец показал на кафе.
Потом отец пошел за газетой. Коннелл, проводив его взглядом, сел в тени на прохладную бетонную скамью и достал из рюкзака книгу. Только он все время отвлекался, думая о том, как отец бредет один к пустому дому. К тому времени, как раздался гудок подъезжающего поезда, Коннелл одолел всего одну страницу. А пока запихивал книгу в рюкзак и собирал сумки, торопясь к поезду, все мысли об отце напрочь вылетели из головы.
65
Как-то в октябре Эйлин хотела с утра включить Эду телевизор, но изображение не появилось на экране. Мастер по ремонту не мог прийти сразу, а Эйлин нужно было на работу. Она оставила Эда на диване, зная, что ему больше нечем заняться, кроме как сидеть и думать. Как он проведет целый день, когда не на что отвлечься от мыслей?
На работе у нее все валилось из рук. Эйлин раз десять ему звонила, и каждый раз он торопился закончить разговор, сказав всего несколько слов, как будто был занят каким-то важным делом.
Вечером она застала его в точности на том же месте. Неужели так и просидел девять часов подряд? Эйлин заглянула в холодильник и в микроволновку: по крайней мере, он поел. Лужица мочи на полу в уборной несказанно ее обрадовала. Хорошо, что она звонила, — хотя бы заставила его вставать.
Так же прошел еще один день, а на третий с утра наконец пришел мастер.
Оказывается, всего-то надо было перепрограммировать что-то в телевизоре и в коробочке кабельного блока. Эйлин дала мастеру сорок долларов на чай, сверх официальной платы.
— Если вдруг еще понадобится, пожалуйста, приходите к нам вне очереди, — попросила она, стараясь за шуткой скрыть отчаяние. — Нам без телевизора никак.
66
Коннелл не спал всю ночь — спешил дочитать к семинару «Преступление и наказание». В предрассветный час, когда он едва мог бороться с усталостью и раздробленностью сознания, ощущавшейся, в полной гармонии с выбранной книгой, как нечто вроде «умственной лихорадки», сюжет понесся вскачь с поистине дьявольской скоростью и перестал восприниматься отвлеченно, зацепив Коннелла за живое. Это могла быть история нервного срыва у любого его ровесника, измотанного тяжелой студенческой жизнью, а тем более вдали от дома, среди русских морозов.
![Елена Белая - Дорога к себе [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)