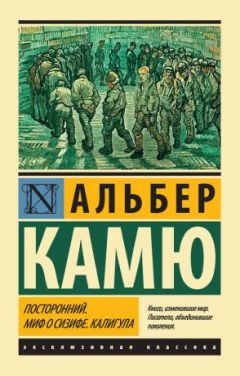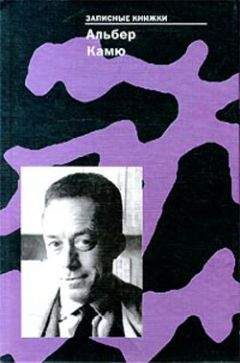Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
– Нарисуй мне счастье.
Ося открыла блокнот, зажмурилась, поддерживая игру, и поняла, что совершенно точно знает, как выглядит счастье. У Осиного счастья были тёмные кудрявые волосы, ямочки на щеках, круто изогнутые – лук Амура – губы и большие сильные руки художника, мастера. Она зажмурилась ещё крепче, пытаясь удержать слёзы, но, видно, слаба она стала, распустилась в этой вольной пустой жизни, слёзы всё-таки потекли, оставляя на щеках блестящие влажные дорожки. Не открывая глаз, она слышала, как Витас пробормотал что-то по-литовски, встал, оделся и ушёл.
Вернулся он поздно вечером, собрал чемодан, заметил, не глядя на неё:
– Я взял билет на поезд, но были только на завтра. Придётся тебе потерпеть меня ещё один день.
– Витас… – начала Ося. Он развернулся к ней, закрыл ей рот ладонью, сказал:
– Я всё понимаю и никого не виню. Но давай не будем об этом. Лучше пригласим Аллу и Марика.
– Дура, – сказала ей Алла. – Какая же ты дура, Олька! Они сидели вдвоём на кухне, резали овощи на салат, Витас и Марик возились в комнате, раздвигали взятый у соседки стол, снимали с антресолей стулья.
– Ну что тебе ещё надо? Любит тебя столько лет, прекрасный человек, из наших, всё понимает. Золотые руки, всё умеет, всё знает, не пьёт, не жадный. Что тебе ещё надо?!
– Наверное, чтобы я его тоже любила.
– Да любишь ты его, любишь, я же вижу.
– По-братски – да. Но это не та любовь.
– Какая любовь? Какая любовь? Тебе сорок четыре года, тебе нужен тёплый дом и надёжное плечо.
– Ты ещё скажи – стакан воды.
– Да, и стакан воды. Это в двадцать лет смешно, а в пятьдесят – уже не очень.
– Ну не могу я, Алла, – взмолилась Ося. – Не могу. Нельзя ему врать, он не заслужил.
– Почему непременно врать? Почему непременно или любовь, что движет солнце и светила, или врать? Спустись на землю, Оля!
– Но вот вы с Мариком… – начала Ося.
– Да, у нас с Мариком есть, – перебила Алла. – А с первым моим мужем, до войны, не было, даже близко не было. И ничего, прекрасно жили.
Она всхлипнула, достала из нагрудного кармана красиво сложенный кружевной платочек, осторожно, чтобы не размазать макияж, промокнула слёзы и сказала:
– Поступай, как знаешь, я от тебя устала. Но с Вита-сом я из-за твоих мелодрам порывать не собираюсь. У нас он всегда будет желанный гость.
За ужином Урбанас молчал, ел мало, но подливал себе всё время настойки, принесённой Мариком. Когда он в очередной раз потянулся за графинчиком, Ося перехватила его руку, он усмехнулся, высвободил руку, но наливать не стал, сказал Марику так, словно всё это время внимательно слушал его разглагольствования:
– Вы, художники, люди искусства, презираете всю эту политическую кутерьму, вам нужна башня из слоновой кости. А вы никогда не задумывались о том, что если бы умные люди вовремя спустились из своих башен, вовремя присмотрелись к тому, что происходит, то ничего этого не случилось бы? Репрессий бы не случилось, Сталина бы не случилось? И великой революцией считалась бы февральская, а не октябрьская?
– При чём тут интеллигенция? – возмутилась Ося. – Ещё скажи, что мы сами виноваты.
Витас помолчал, не поднимая глаз от тарелки, собирая и распуская морщины на лбу. Ося знала эту привычку, он делал так, когда думал о чём-то важном. Молчание затягивалось, Алла с Мариком переглядывались исподтишка, и Ося пожалела, что спросила, что продолжила непростой и ненужный сейчас разговор.
– Сидел со мной в Ухтпечлаге профессор античной истории, – вдруг сказал Витас. – Очень интересный был человек, такой классический университетский профессор, очки, бородка, вежливость исключительная, восемь языков, включая латынь и древнегреческий. Я спросил его однажды, может ли он объяснить то, что вокруг происходит. Он ответил: происходит классический, по всем правилам, культ. Целую лекцию прочитал, да не одну: что такое культы, откуда они берутся и почему. Про Дионисия рассказал, про орфический культ, в честь Орфея, про Кибелу, про Осириса, я всего и не вспомню сейчас. А в конце сказал, что любой культ, каким бы он прекрасным и возвышенным ни казался, есть религия для бедных. Для бедных карманом или для бедных духом, не суть важно. Для бедных.
– Как это? – не поняла Ося.
– Сказал, что олимпийский пантеон – это религия эстетов, – медленно и хмуро, словно вспоминая и сердясь на себя за неумение, неспособность всё вспомнить, проговорил Витас. – Религия прекрасных, счастливых, бессмертных богов, которые либо пируют, либо соблазняют красивых смертных, либо ссорятся и мирятся от скуки. Такая религия хороша для прекрасных счастливых людей. А что делать тому, кто беден, или болен, или просто несчастен? В этой жизни у него счастья нет, загробного продолжения ему не обещают, чем он перед богами провинился – никто не знает. И как ему жить? А культ говорит ему, что, во-первых, не он плох, а в каждом человеке есть и плохое, от титанов, и хорошее, от богов. А во-вторых, есть другая жизнь, загробная, высшая, и если ты будешь жить достойно и делать то, что велят, то в другой жизни тебя вознаградят по заслугам. В другой жизни, в светлом будущем, в коммунизме. Понимаете?
– Интересно, – удивился Марик. – Я всегда думал, что награда в будущей жизни – это христианское изобретение.
– Я тоже так думал, оказалось – восточное. Но дело-то не в этом, тут ещё интереснее штука. Бога в себе ощутить непросто, не каждому дано. Интеллект требуется, напряжённая душевная жизнь. Но если ты адепт культа, там такой ритуал разработан, так всё продумано… Орфические мистерии, к примеру, он мне рассказывал. Барабаны бьют, трещотки трещат, все в белом, все поют хором, несколько дней человек постится, потом выпивает чашу вина сразу – тут не то что бога, весь пантеон сразу разглядишь и в себе, и вокруг. И знаете, что ещё этот профессор мне сказал? Я дословно запомнил, полгода потом обдумывал. Он сказал: культовые мистерии пробуждают такой религиозный экстаз, для которого этические соображения не имеют преобладающей ценности. Ясно?
– Ну, начинается философия, – капризно протянула Алла. – Нельзя ли о чём-нибудь повеселее, Витас?
– Нет тут никакой особой философии, – медленно и глухо, но очень отчётливо произнёс он. – Всё просто, проще некуда. Культ меня приучает так бога своего любить, что мне уже неважно, что этот бог делает и почему. Он может посадить моего товарища или расстрелять брата, а я скажу, что так надо. Может друзей моих пытать, родных ссылать, детей терзать – я всё равно буду думать, что так правильно. А если неправильно – так это случайная ошибка.
Алла поёжилась, встала из-за стола, начала собирать тарелки.
– И что же теперь делать? – по-детски растерянно спросил Марик.
– Я тоже его спрашивал, что же делать, как всего этого не допустить? Знаешь, что он мне ответил? Он сказал, что только две вещи могут победить культ – ум и время. Те, кто способен думать своей головой, сами рано или поздно всё поймут, а те, кто не способен… тут только время. Потому что культ – это как вино. Нельзя быть всё время очень пьяным, или сопьёшься и умрёшь, или протрезвеешь.
– Вот и получается, что мы правы, – заметил Марик. – Время работает на нас, надо ждать и не высовываться.
Витас встал из-за стола, резко отодвинув стул, отошёл к окну и долго стоял там, прижавшись лбом к стеклу, глубоко засунув руки в карманы и перекачиваясь с пятки на носок. Такая жалость к нему вдруг заполонила Осю, что даже дышать стало трудно. Марик качался на стуле, смотрел на Витаса с интересом. Алла стояла у двери, глядела на Марика, прижимала к груди стопку грязных тарелок, не замечая, как расплывается на платье жирное пятно.
– Нет! – развернувшись резко и внезапно, почти выкрикнул Витас. – Нет, не правы. Ты пойми, большинство людей – они ни там и ни там, они способны думать, но сами думать не умеют. Их надо учить. Вот в этом ваша вина. Объяснять надо было, рассказывать, показывать. А вы морщили носы и отворачивались от неприятных картин. Держались от власти подальше. Надеялись, что вас это не коснётся.