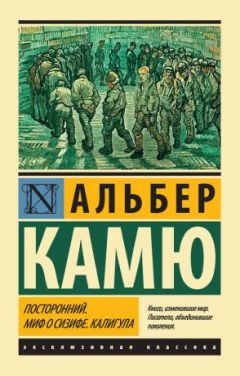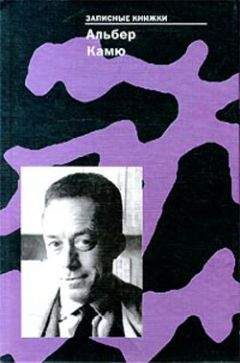Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
Он открыл рот, замотал головой, Ося нетерпеливо махнула рукой:
– Утром я уйду на работу, а ты позвонишь жене и скажешь, что застрял у меня, потому что развели мосты. Потом пойдёшь в комиссионку и купишь ей красивые туфли. Потом купишь букет цветов и встретишь её с работы, чтобы все видели, что у неё есть муж и он её любит. Потом позвонишь Марику и попросишь помочь найти работу. Когда твой сын увидит, что ты работящий, умелый, знающий, повоевавший и много повидавший мужик, вот тогда ты начнёшь с ним разговаривать.
Она потушила свет и вернулась за ширму. Слышно было, как Лёня укладывается, всхлипывает, что-то шепчет, словно молится. Потом он захрапел, и Ося смогла, наконец, уснуть.
Утром, когда она проснулась, Лёня сидел на полу у окна. Волосы у него были всклокочены, пол-лица покрывала иссиня-чёрная щетина, в руках он вертел мокрую, плохо выстиранную рубашку. Ося забрала её, перестирала, высушила утюгом. Бешенство прошло, осталась только жалость к человеку, вытерпевшему свою боль и не сумевшему вытерпеть чужую.
– Знаешь, – сказала она ему, – мы ведь все обмороженные. Иначе не выжить в лагере, мы все что-то заморозили в себе. А когда обмороженный человек попадает в тепло, ему поначалу бывает очень больно.
2
В июле вернулся Урбанас. Он прислал ей лаконичную телеграмму: «Отпустили. Приезжаю 12». Ося позвонила на вокзал, поездов было несколько, каким он приедет – непонятно. Она надела своё лучшее платье, лучшие туфли, повязала новую косынку и отправилась на работу, предупредив соседку, что ждёт гостя. Вернувшись с работы пораньше, она сразу почувствовала в квартире новый запах – запах леса, ветра, простора. Почему-то от Витаса всегда пахло лесом, не осенним, влажным, грибным, немного отдающим плесенью, а летним – сухим, смолистым. Он вышел в коридор на звук открываемой двери, и несколько минут они стояли молча, разглядывая друг друга, потом обнялись и поцеловались.
– Какая ты стала, – сказал он.
– Какая?
– Красивая.
– А раньше была некрасивая?
– Раньше ты была никакая. Раньше тебя как будто не было. А сейчас ты – есть.
– Ты тоже похорошел, – сказала Ося. – Разлука пошла нам на пользу.
– Нет, – серьёзно возразил он. – Нет никакой пользы в разлуке с теми, кого любишь.
– Ты голоден? Устал? – спросила Ося.
– Нет и нет. А ты?
– Я тоже нет.
– Тогда идём гулять, – объявил он. – Я в Ленинграде впервые, покажи мне, пожалуйста, город.
Ося повела его своим любимым путём. От Московского вокзала вдоль по Невскому они дошли до Дворцовой площади, через Александровский сад вышли к Исаакию, потом – на Заячий остров, к Петропавловке. Витас умел слушать, и она разговорилась, рассказывала два часа без перерыва, пока голос не сел. В Петропавловском соборе он долго стоял у могилы Петра, потом сказал:
– Не случайно Усатый его так любил. Он ведь тоже шёл к своей цели самым коротким и самым кровавым путём. Почему же от Петра осталась светлая память?
– Время, – сказала Ося. – Давно уже нет ни тех людей, что он сгноил на невских болотах, ни даже правнуков их, а прекрасный город, ими построенный, стоит. Это и помнят.
– Нет, – возразил он, – не только время. При Петре продавец пирогов мог стать светлейшим князем, был бы только умён и ловок. А при Сталине князья торговали пирожками, а профессора валили лес.
– Положим, Пётр тоже казнил, и ссылал, и разжаловал, – заметила Ося.
– За что? За тупость, за лень, за неумение или нежелание делать дело. А за что посадили тебя? Меня? Марика? Аллу?
Ося взяла его под руку и повела дальше. На Сенатской площади он снова застрял, обошёл её три раза, постоял у Медного всадника, ещё раз обогнул площадь, сказал Осе:
– Я историю России в лагере выучил. Сидел со мной профессор горного института, русской истории меня учил, а я его насчёт современного искусства просвещал. Он мне и рассказал про декабристов. Так рассказал, что до сих пор забыть не могу. Молодые, богатые, образованные, талантливые – что им было за дело до забитых, до бесправных? А вот нашли в себе смелость заступиться за угнетённых, подняли восстание, вышли на площадь. А за нас с тобой, за сотни тысяч таких, как мы, хоть бы одна душа слово доброе сказала.
– Почему нам так грустно, Витас? – спросила Ося. – Мы свободны, мы в Ленинграде, мы вместе, почему же так грустно?
– Потому что кроме пространства есть ещё и время, – непонятно ответил он.
В Летнем саду играл духовой оркестр, несколько пар кружились в вальсе. Они остановились послушать. Витас вдруг повернулся к Осе и церемонно наклонил голову.
– С ума сошёл, – засмеялась Ося, – я сто лет не…
– Я тоже сто лет не, – перебил он, обнимая её за талию.
Ося неохотно шагнула в круг, но музыка кружила, затягивала, и она перестала стесняться, отдалась на волю летящего кружевного ритма. Вальс кончился, оркестр заиграл танго, Ося хотела уйти с площадки, но Витас не отпустил её.
– Ты хорошо танцуешь, – заметила Ося. – Где научился?
– В Париже, – улыбаясь, сказал он. – Меня учили куртизанки. Дамы с камелиями. А ты? Кто так хорошо научил тебя?
– Яник, – ответила Ося и ткнулась головой ему в плечо, чтобы не видеть, как он изменился в лице. Он нагнул голову, зарылся лицом в её волосы, она слышала, как глухо, неровно, пропуская такт, словно глохнущий мотор, бьётся его сердце, и ей сделалось нестерпимо, невыносимо жалко его.
Ночью он пришёл к ней, присел на край кровати, осторожно провёл ладонью по её обнажённой руке, лежавшей поверх одеяла. Ося подвинулась, давая ему место, он скользнул под одеяло, обнял её, сказал что-то по-литовски. Ося лежала тихо, было странно после стольких лет одиночества ощущать, что она не одна в постели, чувствовать, как чужие, незнакомые руки гладят, ласкают её тело, и было немножко стыдно, что тело оказалось сильнее её, что ночью у неё не хватило мужества сказать нет.
Утром, ещё не открывая глаз, она почувствовала запах свежезаваренного чая и жареного хлеба. Витас орудовал на кухне, как она называла тот угол комнаты, где на ящике с посудой стоял электрический чайник. Ося натянула под одеялом халат, быстро, не глядя на него, проскочила в коридор. Ванная была свободна, она встала под ледяной душ, пытаясь понять, как себя вести теперь, что сказать. Так ничего и не придумав, она вернулась в комнату, села на кровать. Витас протянул ей чашку, придвинул тарелку с гренками, спросил:
– Можно, я встречу тебя с работы?
– Нет, – сказала Ося. – Лучше жди меня здесь, дома.
Так прожили они целую неделю. Каждый вечер, возвращаясь с работы, она находила на кухонном столе красиво сервированный ужин, а на стуле – свежевыстиранное, выглаженное платье. Они ужинали, потом отправлялись в театр, на концерт, на выставку, он никогда не говорил заранее, куда её поведёт. Днём они говорили только о виденных спектаклях, о прочитанных книгах, о музыке, о картинах. Того, что он шептал ей по ночам, днём Ося старалась не вспоминать.
На седьмой день, в воскресенье, проснувшись, она почувствовала, что Витас ещё рядом, ещё в кровати.
– Теперь я знаю, что такое счастье, – сказал он, заметив, что она уже не спит. – Счастье – это открыть утром глаза, увидеть рядом тебя и знать, что ты никуда не уйдёшь.
Ося не ответила.
– Посмотри на меня, – потребовал он, приподняв её голову за подбородок.
Ося сказала, не глядя на него:
– Наверное, я слишком старая, чтобы быть счастливой.
– Глупости, в любом возрасте можно быть счастливым.
– Не знаю. Мне кажется, стать счастливым гораздо легче, когда ты молод. Меньше страхов, больше веры. Проще найти счастье в двадцать и сохранить до сорока, чем впервые найти его в сорок.
– А какое у тебя счастье, Ося?
Ося пожала плечами, он перегнулся через неё, взял с ящика, заменявшего ей тумбочку, блокнот и карандаш, протянул ей, велел: