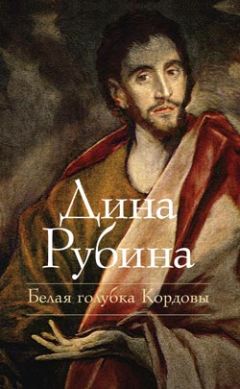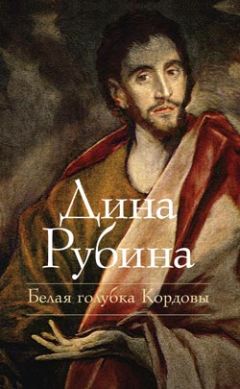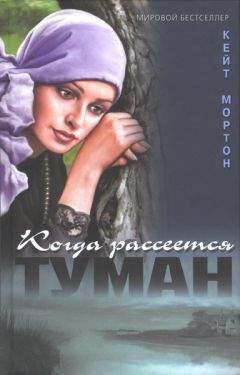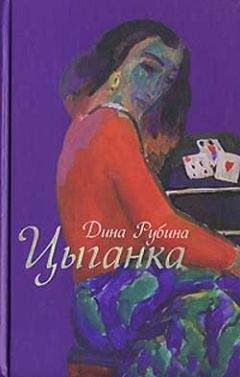Дина Рубина - Белая голубка Кордовы
— Ну, это уже проще… — пробормотал Захар, невольно подпадая под обаяние этого богатейшего голоса, голоса-виртуоза.
Они вместе вышли из музея и пошли по набережной, то и дело останавливаясь и перескакивая с одной темы на другую. Пронизывающий ветер с Невы рвал полы плащей и грыз острыми зубами уши, но невозможно уже было расстаться.
— Как вы терпите этот ужасный климат, вы ведь не питерский овощ, нет? Эта смуглота, р-роковое байроническое сочетание черных волос и светлых глаз — нет, это южное, южное… Винница? Бывал, а как же… край благодатный. Вот уж действительно, где — тиха украинская ночь… Но как же вы тут прижились, голубчик, ведь город-то ужасен, фантасмагоричен? Ведь все кругом здесь только то, чего быть не должно… Не возражайте! Возьмите эти пресловутые белые ночи. Это ведь ненормально, противоестественно, мучительно! Поэтому-то питерцы — люди мизерабельные. Они любят плохую погоду — да-да, не смейтесь: в своей тарелке они чувствуют себя, только принакрывшись этим серым небом, как одеялом… И летом в Питере ужасно, если жара: плавится асфальт, влажно, душно, невыносимо… Знаете, мой отец утверждал, что никогда не видел Питер таким красивым, как в блокаду: мертвый город, заиндевевшие, как на хорошей гравюре, здания. Этому скорбному городу, выстроенному на болоте и на костях, идет умирание. Тень ему идет больше, чем солнце, и питерцы это чувствуют. Вообще, в этом городе человек упивается метелью, тьмой, одиночеством… Вы не согласны, парубок?..
И хотя Захар совершенно не был согласен с новым знакомым, его завораживало кружение этого голоса, с мягкими убеждающими интонациями, с гладкой, без единой помарки льющейся речью, парадоксальными утверждениями и скрытой иронией. Слушаешь и не понимаешь: шутит человек или всерьез говорит…
Но главное — Аркадий Викторович оказался кладезем разных художнических сведений, помнил весьма забавные детали событий даже и многолетней давности, связывал одно с другим и делал самые неожиданные выводы. Словом, человеком оказался занятным и острым.
—.. и что касается знаменитой «Бульдозерной выставки» в Москве, в 74-м, то я помню ее отменно, и как-нибудь подробно расскажу. А вы знали, что питерские власти тоже решили дать выставиться молодым художникам? Это было в ДК Газа. Собрали человек пятьдесят, подача картин шла за закрытыми дверьми. И, знаете, некоторые из этих пятидесяти художников благоразумно сняли свои работы буквально перед выставкой… Побоялись. Ведь КГБ тогда уже охотился за участниками квартирных выставок. Сереге Мануйлову сожгли ипритом задницу. Как? Да на стул распыляли. Присаживайтесь, говорят, присаживайтесь, что ж вы стоите, в ногах правды нет… Постойте! — вдруг, как очнулся, Босота. — Ну, а мы-то с вами чего стоим на ветру, как сироты? Вы ведь работали полдня? Слушайте, Захар, не зайти ли нам хотя бы вот в «Пельменную», а? Что-то и я проголодался.
И Захару понравилось, что зашли они именно в простую «Пельменную», и отлично умяли там по две порции говяжьих «Сибирских», с маслом и уксусом, и все это время говорили, не переставая, как будто давным-давно прервались на полуслове и расстались, а теперь нашли друг друга, и наконец-то можно поговорить по душам…
— Да, вам не повезло, бедолагам, — продолжал Босота, держа в огромных руках алюминиевые нож и вилку так же непринужденно и красиво, как держал он в квартире Минчиных серебряные приборы. — Если уж говорить о традиции, вы родились не от мамы и папы, а от дедушки и бабушки…
— Как-то не хочется рождаться от тех дядей и теть, которые нам преподают, — соглашался Захар.
И сразу перебивал, вспоминая что-то, Босота:
— По поводу прерванной традиции. Меня однажды знакомили с ученицей Малевича. Таинственно вели проходными дворами, намеренно петляли, разве что глаза мне не завязывали… Поразило, знаете, то, что они говорили каким-то своим языком, были у них свои коды: «куполообразное пространство, чашеобразное пространство». Разговор, как мистическое действо… Потом в страшной тайне дали почитать дневник Юдина, тот был ассистентом Малевича, записывал каждый урок. Дали под честное слово, что не стану копировать. И что? Это были кропотливые бездарные записи: «Сегодня урок на тему…»
Расстались они поздно, с чувством, что не договорили о множестве вещей, и дна не видно. И назавтра Аркадий Викторович опять зашел в Эрмитаж за Захаром и привел его обедать к себе домой, заметив, что впервые в жизни так распахивается перед незнакомым, в сущности, человеком.
Жил Босота с вдовой сестрой на улице Чехова, за площадью Восстания, в изумительном доме в стиле модерн: кованые перила в парадном, ниши для статуй, широкие пологие ступени с бронзовыми кругляшами для прутьев, с сохранившимся между первым и вторым этажами витражом (томно переплетенные бело-голубые лилии) и плитками на полу, изгрызанными временем; с тяжело вздыхающим старым зеленым лифтом, чугунные дверцы которого закрывались кое-как.
В этой волшебной просторной квартире, увешанной сверху донизу картинами, рисунками и гравюрами, можно было пробыть целый месяц и всего не пересмотреть. Позже, когда стал в доме совершенно своим, Захар иногда просил разрешения побыть в столовой в то время, когда Босота принимал в кабинете очередного клиента, и проводил чудесные минуты и даже часы перед портретом кисти Серова или этюдом Левитана. Только в комнату к Валерии Викторовне дверь всегда была закрыта. Сестра Босоты выглядела несколько заторможенной, будто пребывала под действием каких-то успокоительных лекарств. Во всяком случае, здесь довольно часто приходилось говорить полушепотом: Валерия Викторовна почему-то много спала.
«Отдыхает моя сестрица, отдыхает…» — говорил Аркадий Викторович. И Захар не лез не в свое дело.
Босота бывал всюду, ездил на открытия примечательных выставок и в Москву, и в Ригу, и в Тбилиси; был осведомлен о лучших частных коллекциях, дружил с директорами музеев и галерей, переписывался и с зарубежными коллекционерами. С удовольствием ходил в гости, но мало кого приглашал к себе. Возможно, причиной тому было нежелание афишировать богатейшую коллекцию, в которой встречались не только передвижники, но и самые крупные имена русского и зарубежного авангарда. Впрочем, и здесь были свои, как выражалась Людка Минчина, «домашние персонажи». Дважды Захар сталкивался в кабинете Аркадия Викторовича с необъятной бабищей в мехах, со свинцовыми глазками пустынной кобры.
Босота обмолвился, что Наталья Арсеновна — внучка знаменитого виолончелиста, а предки ее — основатели той самой секты «жидовствующих», история которой тянется из XVIII-го века. Особа всемогущая, добавил Босота (не прояснил, правда — в чем), и его с сестрой «обставляет». В квартире, и правда, мебель была штучная, антикварная, каждый предмет — с биографией и «историческим анекдотом»: когда однажды Захар развалился в низком массивном кресле, задумчиво пощелкивая ногтями по обитой кожей ручке, Аркадий Викторович насмешливо проговорил: «Не столь фамильярно, юноша: не попортьте мебель. В этом кресле еще Василий Львович Пушкин сиживал, когда в Лицей племянника определял».