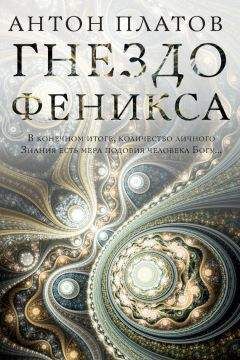Антон Уткин - Крепость сомнения
Прежде чем сойти с насыпи на стезю цивилизации, Галкин останавливался и подолгу смотрел вокруг, высматривал сигнальные фиолетовые огоньки, которые были цветами на сказочной поляне, вглядывался в вертикально поставленные глаза семафоров, слушал с детских лет дорогую его сердцу возню на железнодорожных путях, шорох щебенки под ботинком, вдыхал запах стальных рельс, отполированных до блеска, оглядывался и видел, как город тяжело дышит своими огнями, словно океан. И отчего-то представлял, как в эту самую минуту в черной глубине за много тысяч километров отсюда железный голос, продираясь сквозь сердцевину проводов, отдает команду: «Приготовиться к всплытию. Слушать в отсеках», и все, кто слышит это, знают, что это значит: что, выворачивая нутро моря, усталая лодка идет наверх, домой, к огням окоченевшего берега, таким маленьким и утлым, что даже редкие хилые северные звезды кажутся в сравнении китайскими фонарями. И те, кто это услышит, с особым замиранием станут ждать, пока не почувствуют, как лодка, словно морское чудовище, сбросив с блестящих гладких бортов пудовые волны, не вознесет над поверхностью ледяной воды овальную рубку.
А где-то тоже мгла обнимает землю, по ту сторону облаков скользит по небу луна и ищет в них трещину, чтобы через нее взглянуть вниз, где ворчат под ветром леса, а он метет землю, сгоняя сор в просеки, и летит по столбовым дорогам наперегонки с автомобилями, заглядывая им в окна... А где-то на станции под плакучими ивами остановился поезд, и одинокий пассажир сошел на пустой перрон, бросил в рот сигарету, зевает и читает название станции: «Ко-но-плянниково. Коноплянниково», и через минуту забывает прочитанное, и курит, зябко поводя плечами, и слушает, как бодро отзываются стальные буксы под молотками сцепщиков, точно солдаты на поверке. И от реки наползает туман, и дым его сигареты становится туманом...
И может быть, где-то совсем в другой четверти земли в сонном городе сидит кто-то под зеленым абажуром, держит в руках старую книгу с оклеенными кожей углами, и глаза его стоят на этих вот словах: «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос».
А еще где-то неистовствует солнечный полдень, зной калит песок, камни шипят морской пеной...
И где-то сейчас чьи-то губы клянутся любить вечно и верят каждому своему слову.
И Галкину приходило в голову, как много совершается разных вещей в одно и то же время.
Однажды, возвращаясь с работы, он обратил внимание, что помещение на первом этаже соседнего дома, где испокон веков размещался магазинчик хозяйственных товаров, занимает теперь какой-то другой под вывеской «Халял». Эта перемена случилась быстро и неожиданно – в течение одного рабочего дня, и ничто не предвещало этой перемены. Утром, идя на работу, Галкин зашел в магазинчик купить губку для обуви, а вечером на его месте был уже другой. «Халял так халял», – сказал про себя Галкин, пожал плечами, с удивлением поглядел на вывеску, на входную дверь, но внутрь заходить не стал.
* * *
Намыкавшись в поездке по казахским степям, Илья с удовольствием смаковал подробности привычной жизни. Москва показалась ему большой уютной квартирой, вроде той, которую он снимал. Приятно было ощущать на ногах не заляпанные грязью сапоги Чингисхана, а свои элегантные замшевые ботинки, подошвы которых аккуратно налегают на педали автомобиля. Вчера он отвез деньги, полученные от Константинова, в отделение банка «Империал», где их должны были обезналичить, а завтра он надеялся уже перевести их на счет компании, которая обслуживала комитет по рекламе при правительстве Москвы.
На работе, когда позволяло время, Илья включал приемник и слушал, как Аля читает новости своим упругим, стройным голосом. Голос в эфире всегда был не похож на голос по телефону или на просто голос, и Илье никак не давалась эта загадка.
День для него начался как обычно: он сделал несколько звонков... Покончив с этими делами, он глянул на часы и нажал кнопку приемника. Тотчас в кабинет ворвались позывные Алиной радиостанции. Аля бодро поздоровалась со слушателями и возвестила о начале выпуска новостей. Первым делом она сообщила о поездке премьера в Поволжье, и о массовом отравлении детей на Алтае и только после этого объявила о банкротстве банка «Империал». Сначала он решил, что это шутка, что она решила его разыграть, но потом ему пришло в голову, что у них никогда не заходило разговора о том, каким банком он пользуется. Когда же в кабинет вбежал возбужденный Толик, до него начало доходить все значение случившегося события.
– Да только что вот на прошлой неделе ему рекламу снимали, – твердил он Толику. Это было непостижимо.
К вечеру Толик притащил откуда-то портрет недавно назначенного сероглазого премьер-министра и, не спрашивая даже Ильи, повесил его на стене. Премьер смотрел спокойным мудрым взглядом, и в уголках его глазах таилась добрая снисходительность, мол, знаю, знаю я ваши проблемы, я вообще все знаю, и все идет по плану.
– Hас тут тридцать седьмым годом все пугают, – заметил Илья, безучастно наблюдавший за действиями Толика. – А мне так кажется, что он уже наступил. И никто, в сущности, не возражает.
Толик посмотрел на него удивленно своими свинячьими цепкими глазками, словно недоумевал, как такие пустые мысли могут занимать ум заинтересованного человека в столь драматическую минуту.
* * *
Бледно отражаясь в сумеречном окне, Галкин смотрел на город из окна своего кабинета и ломал голову над тем, как опровергнуть пошлейший постулат о невозможности истории в сослагательном наклонении.
Идея исторической обусловленности явлений казалась ему убогой, примитивной и безнравственной. По его мнению, из-за того что люди очень часто обнаруживают полную пассивность и плывут по течению, вовсе еще не следует, будто это и есть вся основа исторического процесса. Корни оправдания «разумной действительности», как правило, охотнее всего разыскивали те, кто хотел иметь возможность легко и беспрепятственно слагать с себя ответственность. И признание того, что последующее как бы по железным непререкаемым законам истории вытекало из предыдущего, парализовало человеческую волю и человек охотно признавал себя беспомощной игрушкой зловещих неуправляемых процессов. И если история и впрямь не терпит сослагательности, в таком случае из наших прогнозов о будущем должно быть исключено слово «или». Но оно есть, и без него не обходятся прогнозы самых великих, проницательных мудрецов, и, в сущности, только вещее слово Кассандры оказалось по-настоящему непререкаемым. То есть если прошлое действительно определяет будущее, то в определении этого последнего не может быть никакой гадательности. Галкин согласен был с тем, что история слагается из «упования и воспоминания», но ему хотелось найти те «звенья сокровенной цепи», которые могли быть изъяты...
И он смотрел из окна своей комнаты, видел груды огней, струение магистралей и действительно думал, что бы было в эту самую минуту, если бы Деникин взял Москву. Было бы это окно, недавно отмытое альпинистами, были бы на окнах эти цветы с меланезийского атолла, или же по какому-нибудь циркуляру из знаменитого дома на Тверской казенные помещения украшала бы старая добрая герань, возведенная в высшее сословие росчерком чьего-то пера...
Но Галкину хотелось разобраться, было ли это следствием неизбежности или случайности или, допускал он, вопрос, который глодал его мозг, вообще устарел. То есть если следовать этому рассуждению, прошлое – оно в определенный момент времени становится не просто ненужным, оно отмирает, должно умереть. И его надо забыть. Но мысль сама есть воспоминание. Хотя бы о самой себе. К тому же есть еще совесть.
Теперь он был уверен, что пятая крыса очень скоро превращается в шестую и даже седьмую, но вот может ли она стать четвертой, этого он не знал.
Ему часто приходилось слышать, что за прошлое цепляются слабые люди. Он представлял себе этих слабых людей в простылых офицерских шинелишках в реденькой цепи под Батайском, когда снежный ветер задувает слова ротного, выкрикивающего прицелы, а голубой свет самого льда блещет на голубых штыках. Они барахтались в этом снегу, не желая отдавать своего прошлого. Наверное, они были слабыми людьми. К тому же победа осталась не за ними.
И Галкин казался себе точкой, ходящей по кругу циркуля, или мулом на молотьбе, привязанным к горизонтально закрепленному колесу. И он недоумевал, имея в виду свои статьи – все то, что он писал до сих пор, – как ему удается еще укладывать эти поленницы слов, кренящиеся на все стороны. Тогда он откладывал все и снова и снова перечитывал скупые строки записок, написанных рукой неизвестного ему человека – своего наперсника через столетие, который существовал или, напротив, умер, чтобы сейчас Галкин дышал, думал и читал.
август 1919
«Сатурналии! – вот что сегодня в голову пришло. – Был такой в Древнем Риме праздник, когда на три дня рабы становились на место господ, и наоборот. Такой праздник. У нас тоже праздник. Красный на Руси – искони цвет праздничный. Щиты червленые. Кумачовые рубахи, чтобы не радовать супостата видом ран. В избах – красные углы. Дружка жениха на свадьбе в красной рубахе. У дома невесты на шестах красные флаги. Весна-красна.Горка тоже красная. Красная Пасха, говорят. Площадь Красная. Красна девица. Транспаранты, что были в 17-м, – красные. Знамена, под которыми на нас идут сейчас, – тоже красные. Комиссары – в красных бантах. Кавалеристы их – в красных рейтузах. Червонное казачество. Так что революция – это кумачовый праздник. Только он у нас на три года затянулся. Кровь-то – она тоже красная».