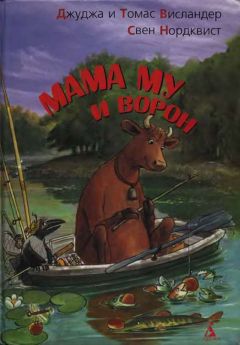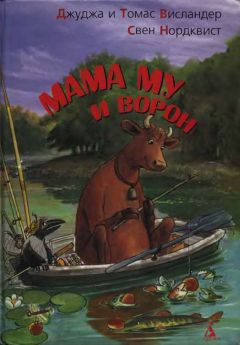Почтовая открытка - Берест Анна
Иногда казалось, что она воспринимает нас как ненастоящую семью, как приемных.
Ей приятно было делить с нами какие-то семейные радости, сидеть с нами за столом, но в глубине души она хотела вернуться к своим.
Мне трудно соединить в едином образе дочку Рабиновичей Мирочку и Мириам Бувери, мою бабушку, у которой я жила каждое лето, между горами Воклюз и хребтом Люберона.
Непросто собрать все воедино. Нелегко состыковать друг с другом все периоды истории. Эта семья как огромная охапка цветов, которую никак не удержать в руках.
— Мне хочется отыскать хижину моего детства. Надо идти через холмы, это позади деревни.
— Пойдем, — сказал Жорж.
Дойдя до конца тропы, я мысленно увидела Мириам, ее загорелую дочерна, словно выдубленную солнцем кожу, я вспомнила, как она идет по каменистым холмам, мимо колючих растений.
— Вот, — сказала я Жоржу. — Видишь ту хижину? Здесь Мириам и жила после войны вместе с Ивом.
— Должно быть, она напоминала им дом повешенного!
— Видимо, да. Тут я проводила у нее каждое лето.
Постройка из кирпича, черепицы и бетона, без ванной и туалета, с пристроенной летней кухней. Мы все вместе жили здесь с начала июля, как бы в замедленном темпе из-за страшной жары, которая сковывает все живое, обращает людей и животных в соляные статуи. Мириам воссоздала ту жизнь, которую помнила по даче отца в Латвии и палестинской ферме бабушки и дедушки. У мамы были длинные волосы, у отца тоже, мы мылись в желтом пластиковом тазике, вместо туалета надо было ходить в лесок, я садилась на корточки за большим камнем, покрытым лишайником, и увлеченно наблюдала за тем, как горячая струйка бежит по листьям, распугивая жуков и унося клопов и муравьев, как лава извергающегося вулкана.
Долгое время я думала, что все дети на каникулах спят в одной большой хибаре вместе со всеми родственниками и после обеда валяются на матрасах и бегают в туалет в ближайший лес.
Мириам научила нас готовить варенье, собирать мед, консервировать фрукты в сиропе, сажать огород и ухаживать за фруктовым садом с айвой, абрикосом и вишней. Раз в месяц приезжал рабочий с дистиллятором, остатки фруктов шли на изготовление настоек. Мы собирали гербарии, устраивали спектакли, играли в карты. Мы дудели сквозь травинки — Мириам научила нас правильно зажимать их между пальцами, надо было срывать широкие и крепкие, чтобы звук был громче. Еще мы сделали свечки из апельсинов, вставляя фитиль на ножке в пустую апельсиновую кожуру. Внутрь надо было наливать оливковое масло. Время от времени мы ходили в деревню покупать колбаски для гриля, отбивные, фарш для помидоров, жаворонков без голов. Сначала шли сквозь лес, долго брели под солнцем, в серебристом блеске листьев пробкового дуба. В детстве мы могли шагать по этим тропинкам босиком, не чувствуя боли. Мы понимали, на какой камень можно встать, чтобы не было больно; мы находили фоссилии в форме ракушек и акульих зубов. Мы стойко переносили жару и побеждали ее, как побеждают страшного врага, который испепеляет все на своем пути. А как восхитительна была победа, когда с наступлением темноты приходила спасительная вечерняя прохлада и ветерок гладил нас по лбу и, как мокрая тряпица, снимал жар. И тогда Мириам вела нас кормить лисицу, которая жила на холме. «Лисы добрые», — говорила она нам. Она добавляла, что эта лисица ее друг, и пчелы тоже. И мы верили, что она с ними тайком разговаривает.
В компании дяди, тети и всех двоюродных братьев и сестер каникулы пролетали быстро, как детский сон. Детей, которые родились у них с Ивом, Мириам назвала Жаком и Николь.
Николь выросла и стала агрономом.
Жак работает проводником в горах и пишет стихи. До этого он долгое время преподавал историю.
В подростковом возрасте каждый из них пережил трагическое событие. Жак в семнадцать лет. Николь в девятнадцать. Никто не проводил никакой параллели. Потому что все молчали. И еще потому, что в этой семье не верили в психоанализ. Дядя Жак, которого я обожала, дал мне прозвище — Ноно. Мне оно очень нравилось. Так звали маленького робота из мультфильма.
Постепенно Мириам теряла память, с ней случались странности. Однажды утром, очень рано, она пришла поднимать меня с постели. Вид у нее был испуганный, встревоженный.
— Бери чемодан, надо уходить, — сказала она.
Потом стала ругать меня за шнурки на ботинках. То ли они развязались, то ли не так завязались. Но вид у нее был очень сердитый. Машинально я встала и пошла за ней, а она просто легла обратно в кровать.
Через некоторое время она стала слышать голоса, будто бы кто-то говорил ей что-то с холма. К ней возвращались забытые предметы, лица, воспоминания. Но одновременно с этими давними и зыбкими воспоминаниями менялась ее речь и даже почерк, они становились странными, путаными. Но она все равно продолжала писать. Все время. Почти все свои записи она выбросила и сожгла. Мы потом нашли у нее кабинете лишь несколько страниц.
Дойдя до трудного периода, я погружаюсь в странное беспокойство.
Мне очень близка природа и растения, но некоторые люди из моего окружения мне крайне неприятны.
Я резко обрываю фразы, мне кажется, от этого недопонимание.
Сижу возле платана и липы, сидеть под ними все приятнее. Я не сплю, а мечтаю и надеюсь, что постепенно моя голова устанет от множества глупых мыслей. И я любуюсь красотой нашей рощи, мы сумели обжить этот небольшой участок; но я все равно вернусь в Ниццу на несколько зимних месяцев.
Там, вдали от дома, я нахожу радость и дружбу.
Жак вернется в среду.
В последние годы надо было, чтобы кто-то в Сереете ухаживал за ней, потому что Мириам сама не справлялась. Потом произошло странное: Мириам забыла французский. Этот язык, который она выучила поздно, в десять лет, стерся у нее из памяти. Она говорила только по-русски. По мере того как сдавал мозг, она как бы впадала в языковое детство, и я прекрасно помню, как мы писали ей письма кириллицей, чтобы поддерживать с ней связь. Леля просила своих русских знакомых написать образец, а мы потом его старательно переписывали. Участвовала в этом вся семья, мы сидели за общим столом и срисовывали фразы, и в конце концов это было даже весело — писать на языке наших предков. Но для Мириам наверняка это было сложное время, она в каком-то смысле снова стала чужестранкой в своей стране.
Мы с Жоржем обошли домик со всех сторон и вернулись к машине. И тогда я призналась ему, что купила в аптеке тест на беременность.
— Я уверен, что ты беременна, — сказал Жорж. — Если будет девочка, давай назовем ее Ноэми. А если мальчик — Жак. Что скажешь?
— Нет. Мы дадим ему имя, которое не носил никто.
Глава 42
Я перелистывала страницы блокнота в надежде, что они к чему-нибудь приведут. Если хорошенько поломать голову, может, в нее придет дельная мысль.
— Мирей! — сказала я. — Я же читала ее книгу! По-моему, она до сих пор живет там же.
— Мирей?
— Да, да! Маленькая Мирей Сидуан! Дочь Марсель, которую воспитывал Рене Шар. Теперь ей должно быть лет девяносто. Я знаю это, потому что она написала книгу воспоминаний, я ее не так давно читала. И… и она там пишет, что по-прежнему живет в Сереете! Она знала Мириам, она знала мою мать, это точно. Напоминаю тебе, она была двоюродной сестрой Ива.
Пока я это говорила, Жорж просматривал с телефона сайт адресного справочника, а потом с уверенностью заявил:
— Да, я нашел ее адрес, — если хочешь, поехали.
Я узнавала улочки деревни, по которым бегала в детстве, дома, лепившиеся друг к другу, и повороты улиц, узкие, как локоть, — казалось, ничего не изменилось за тридцать лет. Напротив дома Анриет по-прежнему стоял дом Мирей, дочери Марсель, лисицы из «Листков Гипноса».
И мы без всякого предупреждения о визите позвонили в ее дверь. Я сначала не решалась. Но Жорж настоял.